– Это будет самая памятная ночь в твоей жизни, Захария, – добавил узник.
Стражник поставил стаканы на поднос и, подмигнув, ответил:
– Это уж точно, сударь. Если у лорда Годолфина родится сын, в замке начнется такое веселье, что к утру, глядишь, и про вас забудут.
Дона взяла со стола рисунок чайки.
– Я выбираю вот это, – сказала она. – Идем, Захария, мне кажется, нам лучше спуститься вместе, чтобы лорд Годолфин не заметил в твоих руках подноса. А узник пусть снова возвращается к прерванному занятию. Прощайте, сударь, желаю вам покинуть завтра эти места так же легко и незаметно, как перышко, выпорхнувшее из моего окна.
Француз поклонился:
– Это зависит от того, сударыня, сколько кружек пива сумеют одолеть Захария Смит и доктор Уильямс.
– Ну уж меня-то ему не перепить, какой бы он там ни был выпивоха, – проговорил стражник и распахнул перед Доной дверь.
– Прощайте, леди Сент-Колам, – сказал узник.
Дона остановилась на пороге и посмотрела на него. Ей вдруг со всей очевидностью стало ясно, что предприятие, затеянное ими, гораздо рискованней и опасней всех его предыдущих операций и что в случае провала спасти его от виселицы будет уже невозможно. Но он неожиданно улыбнулся – той самой затаенной улыбкой, которая всегда казалась ей выражением сути его характера, улыбкой, за которую она полюбила его и которую уже никогда не забудет. И, глядя на эту улыбку, она снова вспомнила «Ла Муэтт», потоки солнечного света, заливающие палубу, ветер, гуляющий на морских просторах, тенистые заводи ручья, костер на берегу и глубокую, ничем не нарушаемую тишину. Она вскинула голову и, не оглядываясь, сжимая в руке рисунок, вышла из комнаты. «Никогда, – думала она, – никогда я не смогу рассказать ему, в какую минуту я любила его больше всего».
Она спускалась вслед за стражником по узкой лестнице, чувствуя, что сердце ее ноет от мучительной тоски, а руки и ноги дрожат от пережитого волнения. Стражник задвинул поднос под лестницу и с усмешкой произнес, обращаясь к ней:
– Первый раз вижу, чтобы человек так спокойно встречал собственную смерть. Говорят, французы вообще народ бессердечный.
Дона с трудом выдавила улыбку и, протянув ему руку, сказала:
– Ты добрый малый, Захария. Надеюсь, на твою долю достанется еще немало кружек пива, в том числе и сегодня ночью. Я обязательно пришлю к тебе доктора Уильямса. Запомни: щуплый коротышка с крошечным ротиком.
– И с глоткой, в которую вмещается по меньшей мере целый жбан пива, – захохотал стражник. – Хорошо, сударыня, я дождусь его и помогу ему утолить жажду. Только ничего не говорите его светлости.
– Не волнуйся, Захария, я никому не скажу, – серьезно ответила Дона и вышла из темной караульни на залитую солнцем аллею. Не успела она пройти и двух шагов, как увидела Годолфина, торопливо бегущего ей навстречу.
– Представьте себе, сударыня, – проговорил он, вытирая мокрый лоб, – карета и не думала выезжать со двора – доктор все еще находится у моей супруги. Он решил, что Люси будет спокойней, если он останется у нас на ночь. Бедняжка совсем упала духом. Так что вы, к сожалению, ошиблись.
– Ах, какая досада! – воскликнула Дона. – Я заставила вас напрасно бегать по лестнице. Ради бога, простите меня, сударь. Но вы ведь знаете: женщины бывают порой так бестолковы! Вот, взгляните, я все-таки выбрала чайку. Как вы думаете, понравится она его величеству?
– Полагаю, сударыня, что вкус его величества известен вам гораздо лучше, чем мне, – ответил Годолфин. – Ну а что вы скажете о пирате? Согласитесь, что он вовсе не так страшен, как вы ожидали.
– Наверное, содержание под стражей пошло ему на пользу. А может быть, он просто смирился, поняв, что из-под вашего зоркого ока ему уже не ускользнуть. Во взглядах, который он бросал на вас, я прочла уважение и преклонение перед более сильным противником.
– Вот как? Вы считаете, что его взгляд выражал преклонение? А мне, признаться, показалось, что это нечто совсем противоположное. Ну да этих иностранцев сам черт не разберет. Они непредсказуемы, как женщины.
– Вы правы, сударь, – ответила Дона.
Они подошли к крыльцу. Дона заметила стоявшую неподалеку карету врача, а рядом с ней свою коренастую лошадку, которую слуга все еще держал под уздцы.
– Не желаете ли перекусить перед дорогой? – осведомился Годолфин.
– Нет-нет, благодарю вас, – ответила она, – я и так слишком задержалась. У меня еще столько дел перед отъездом! Жаль, что не удалось попрощаться с вашей женой, но ей сейчас, конечно, не до меня. Передайте ей мои наилучшие пожелания. Надеюсь, до наступления темноты она уже порадует вас вашей крошечной копией.
– В этом, сударыня, я целиком уповаю на милость Божью, – важно изрек Годолфин.
– Уповайте лучше на лекаря, – ответила Дона, садясь в седло, – как-никак у него в этом деле немалый опыт. Прощайте, милорд.
Она махнула рукой и поскакала прочь, что есть силы нахлестывая коренастую лошадку, которая от испуга припустила галопом. Подъехав к башне, она натянула поводья и, глядя вверх, на узкую бойницу, просвистела несколько тактов любимой песенки Пьера Блана. Прошла минута, и из бойницы вдруг выпорхнуло маленькое белое перышко – крошечный клочок пуха, оторванный от гусиного пера, – и плавно, будто снежинка, полетело к земле. Дона подхватила его и, не заботясь о том, что Годолфин может ее увидеть, продела за ленту своей шляпы. Затем еще раз взмахнула рукой и, смеясь, поскакала прочь по дороге.
23
Дона выглянула из окна спальни. Высоко в небе над темными кронами деревьев повис тоненький золотой серпик нарождающегося месяца. «К счастью», – подумала Дона и застыла, любуясь погруженным в темноту садом, вдыхая терпкий, сладкий аромат магнолий. Ей хотелось запомнить этот вечер, навсегда сохранить его в сердце вместе с воспоминаниями о той красоте, которая совсем недавно радовала ее, а теперь канула в прошлое, – она понимала, что видит это в последний раз.
Спальня показалась ей чужой и неуютной. Остальные комнаты тоже выглядели мрачно и неприветливо: всюду громоздились сундуки и коробки, одежда по ее приказанию была сложена и аккуратно увязана в тюки. Когда, разгоряченная и пыльная с дороги, она вернулась под вечер домой, оставив лошадку на попечение грума, у дверей ее уже ждал конюх с хелстонского постоялого двора.
– Сэр Гарри передал, что вы хотите нанять карету до Оукхэмптона, ваша светлость.
– Да, – ответила она.
– Хозяин просил сообщить, что карета готова и прибудет за вами завтра после полудня.
Она рассеянно поблагодарила его, глядя в сторону, на убегающую вдаль аллею, на парк и на лес, за которым скрывался невидимый отсюда ручей. Слова конюха казались ей нелепыми и бессмысленными, не имеющими никакого отношения к действительности. Он говорил о будущем, а будущее ее не интересовало. Она повернулась и пошла в дом, а конюх долго еще смотрел ей вслед, озадаченно почесывая в затылке, – какая странная дама, бормочет что-то, будто во сне, и не поймешь, слышит она тебя или сама с собой разговаривает.
Дона побрела в детскую, оглядела пустые кроватки, голый пол, с которого успели снять ковер. Шторы были задернуты, и воздух в комнате сделался душным и жарким. Под одной из кроваток валялась оторванная лапка матерчатого кролика – любимой игрушки Джеймса, которую он разорвал однажды в припадке злости.
Дона подняла ее и повертела в руках. Лапка выглядела трогательно и жалко, как будто пролежала здесь долгие-долгие годы. Оставлять ее на полу не хотелось. Она открыла тяжелый платяной шкаф, стоявший в углу, и положила лапку внутрь. Потом захлопнула дверцу и, не оборачиваясь, вышла из комнаты.
В семь подали ужин. Дона почти не притронулась к нему – ей было не до еды. После ужина она отпустила служанку и, сказав, что очень устала и хочет как следует отдохнуть перед дальней дорогой, попросила не беспокоить ее ни сейчас, ни завтра утром.
Когда служанка вышла, она развязала узелок, приготовленный для нее Уильямом, – она заехала к нему сразу после посещения лорда Годолфина. В узелке были грубые чулки, старые, поношенные штаны и латаная-перелатаная рубашка яркой расцветки. Дона с улыбкой достала вещи, вспоминая, какое смущенное лицо было у Уильяма, когда он вручал их ей.
– Это все, что удалось раздобыть, миледи. Грейс взяла их у своего младшего брата.
– Отличный костюм, Уильям, – утешила его Дона, – такому костюму позавидовал бы даже Пьер Блан.
Ну что ж, сегодня ночью она примерит этот костюм на себя, сегодня ночью в последний раз наденет мужское платье.
– Зато теперь я смогу быстро бегать, – объяснила она Уильяму. – И скакать верхом по-мужски, как скакала в детстве.
Уильям сдержал обещание и достал лошадей. Встретиться они договорились в девять на дороге, ведущей из Нэврона в Гвик.
– И не забудь, Уильям, – наставляла она, – теперь ты врач, а я – твой кучер. Никаких «миледи», зови меня просто «Том».
Он сконфуженно отвел взгляд:
– Не знаю, миледи, смогу ли я. Очень уж это непривычно, прямо язык не поворачивается.
Она рассмеялась и ответила, что врачу не пристало выказывать такую робость, в особенности врачу, чья пациентка только что благополучно произвела на свет сына и наследника.
Она начала переодеваться. Наряд пришелся как раз впору, даже ботинки оказались по ноге, не то что неуклюжие башмаки Пьера Блана. Она повязала голову платком, стянула талию кожаным поясом и подошла к зеркалу – из рамы на нее смотрел смуглолицый паренек с темными вихрами, упрятанными под косынку. «Вот я и снова юнга, – подумала она. – А Дона Сент-Колам снова дремлет в своей кровати и видит сладкие, волнующие сны».
Она подошла к двери и прислушалась: в доме было тихо, слуги давно разошлись. Она старалась не думать о неосвещенной лестнице, по которой ей предстояло спуститься, – слишком живо было воспоминание о Рокингеме, крадущемся вверх с ножом в руке. «Нужно зажмуриться покрепче, – решила она, – и осторожно, держась за перила, сойти в зал. Тогда, по крайней мере, не придется смотреть на тяжелый щит, висящий на стене галереи, и на черные ступени, уходящие вниз». Закрыв глаза и вытянув руки, она медленно двинулась вперед. Сердце ее отчаянно билось, ей чудилось, что где-то там, в темноте, притаился Рокингем и готовится напасть на нее. Охваченная диким страхом, она бросилась к двери, рванула задвижку и выбежала в сгущающиеся сумерки. Стоило ей очутиться в знакомой тихой аллее, как страх ее мгновенно исчез. Воздух был мягок и спокоен, под ногами похрустывал гравий, на бледном небе сиял тонкий серп луны.



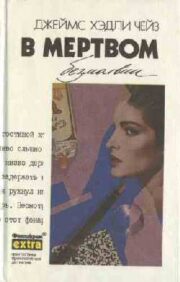
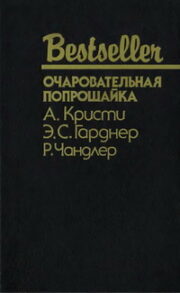

"Французов ручей" отзывы
Отзывы читателей о книге "Французов ручей", автор: Дафна дю Морье. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Французов ручей" друзьям в соцсетях.