— Да, мадам.
— А директор? Так называемый директор?
— О, он специалист своего дела, — одобрительно покачал головой мосье Аристид. — Я плачу ему хорошие деньги. Он раньше был медиумом[214], проводил спиритические сеансы[215].
Некоторое время Аристид молча курил. Хилари тоже молчала.
— Рядом с вами стоит рахат-лукум, мадам. И другие восточные сласти, если вы их предпочитаете. — Вновь наступило молчание. Затем он продолжал: — Я, сударыня, филантроп. Как вы знаете, я богат, на сегодня — один из самых богатых людей в мире, если не самый богатый. Обладая таким состоянием, я чувствую себя обязанным служить человечеству. Я создал здесь, в этом уединенном месте, лепрозорий и исследовательский центр по лечению проказы. Некоторые формы проказы излечимы, другие до сих пор излечить не удается. Тем не менее мы постоянно работаем над этим и добились неплохих результатов. Проказа на самом деле не так уж легко передается. Она куда менее заразна, чем оспа, тиф, чума и прочие инфекционные заболевания, но стоит произнести слово «лепрозорий», как все содрогаются и начинают обходить его стороной. Это страх, уходящий в глубь веков, который можно встретить еще в Библии и который сохранился с тех времен в первозданном виде. Страх перед прокаженными и помог мне оборудовать это место.
— Так вы для этого устроили здесь лепрозорий?
— Да. Еще у нас есть Онкологический центр, ведутся исследования туберкулеза. Изучаем мы и всякого рода вирусы — bien entendu, только в лечебных целях, о биологической войне речь не идет. Все гуманно, все полезно, все в высшей степени подчеркивает мои заслуги. Время от времени, как сегодня, сюда приезжают познакомиться с нашими достижениями известные физики, врачи и химики. Здание специально построено так, чтобы часть его была изолирована и невидима даже с воздуха. Самые секретные лаборатории вырублены в скале. В любом случае, я вне подозрений. Я ведь очень богат, — добавил он с усмешкой.
— Но почему? — спросила Хилари. — Откуда такая страсть к разрушению?
— У меня, сударыня, нет никакой страсти к разрушению. Вы ко мне несправедливы.
— Но раз так… тогда я просто ничего не понимаю.
— Я — деловой человек, — терпеливо объяснил мосье Аристид. — Кроме того, я коллекционер. Это единственное, что остается, когда богатство становится в тягость. Я многое коллекционировал в своей жизни. Картины… мое собрание одно из лучших в Европе… керамику. Я филателист, и моя коллекция марок знаменита во всем мире. Когда коллекция становится по-настоящему представительной, приходится переходить к чему-то другому. Я старик, сударыня, так что я перебрал почти все. В конце концов я решил коллекционировать умы.
— Умы? — переспросила Хилари.
— Да, — кивнул мосье Аристид, — интереснее этого ничего нет. Понемногу, сударыня, я собираю здесь лучшие умы со всего мира. Я беру сюда молодежь, многообещающую, добившуюся успеха молодежь. Когда-нибудь усталые народы проснутся и поймут, что их ученые стары и замшелы, а молодые умы — врачи, химики, физики — находятся здесь, у меня, и если им нужен ученый или специалист по пластической хирургии, они должны перекупить его у меня!
— Вы хотите сказать… — Хилари невольно подалась вперед, не спуская с него глаз. — Вы хотите сказать, что все это просто-напросто гигантская финансовая операция?
— Ну да, — кивнул мосье Аристид. — В противном случае это было бы бессмысленно.
Хилари тяжело вздохнула.
— Да. Так я и думала.
— В конце концов, — почти извиняющимся тоном произнес мосье Аристид, — это моя профессия. Я ведь финансист.
— И вы хотите сказать, что во всем этом нет никакой политической подоплеки? Что вам не нужна власть над миром?..
Он протестующе всплеснул руками.
— Я не хочу быть Богом, — проговорил он. — Это профессиональная болезнь диктаторов, а я человек верующий и пока что эту болезнь не подцепил. — Подумав, он добавил: — Конечно, до этого может дойти… пожалуй, может. Но пока что, слава Богу, нет.
— Как же вам удалось заполучить сюда всех этих людей?
— Я их покупаю, сударыня. На рынке, как любой товар. Иногда за деньги, чаще — за идеи. Молодежь — это мечтатели. У них есть идеалы, есть вера. Иногда я покупаю их за обеспечение безопасности — в том случае, если они преступили закон.
— Понятно, — отозвалась Хилари. — Теперь мне понятно, что меня так озадачило по пути сюда.
— И что же вас озадачило?
— Разница в целях. Энди Питерс, американец, выглядит левым, а Эриксен явно верит в идею сверхчеловека. Хельга Неедгейм — отъявленная нацистка самого низкого пошиба. Доктор Баррон… — Тут она заколебалась.
— Да, этот приехал ради денег, — промолвил мосье Аристид. — Доктор Баррон человек цивилизованный и циничный. Никаких иллюзий у него нет, но есть любовь к своему делу. Ему для продолжения исследований нужны неограниченные средства. Вы умны, сударыня, — прибавил он. — Я сразу это заметил, еще в Фесе.
Он вновь издал тихий смешок.
— Вы, сударыня, об этом не знали, но я отправился в Фес исключительно для того, чтобы понаблюдать за вами… точнее, я велел привезти вас в Фес, чтобы иметь возможность за вами наблюдать.
— Ясно, — сказала Хилари, отметив про себя эту восточную перефразировку.
— Мне было приятно, что вы теперь будете находиться здесь. Дело в том, что здесь довольно трудно найти умных собеседников. Все эти физики, химики, биологи, — пренебрежительно махнул он рукой, — возможно, гении в своем деле, но как собеседники интереса не представляют. Да и жены у них, — добавил он задумчиво, — обычно весьма скучны. Мы вообще-то не поощряем пребывания здесь жен. Я допускаю их сюда только в одном случае.
— В каком же?
— В том случае, — сухо процедил мосье Аристид — если муж не может как следует делать свою работу из-за того, что слишком много думает о жене. Именно это, по всей видимости, произошло с вашим мужем, Томасом Беттертоном. Томаса Беттертона в мире знают как гения, но здесь он выдавал весьма посредственные результаты. Да, Беттертон меня разочаровал.
— А разве так бывает не всегда? Ведь люди здесь, по существу, находятся в тюрьме. Неужели они не восстают? По крайней мере, в первое время?
— Да, — согласился мосье Аристид. — Это вполне естественно и неизбежно. С птицей, впервые посаженной в клетку, бывает то же самое. Но если птица находится в достаточно просторном вольере, если у нее есть все необходимое: самка, зерно, вода, ветки — она в конце концов забудет о свободе.
— Вы меня пугаете, — поежилась Хилари. — В самом деле пугаете.
— Вы здесь многое поймете, сударыня. Позвольте заверить вас, что, хотя все эти люди разных убеждений по приезде сюда бывают разочарованы и пытаются взбунтоваться, рано или поздно они становятся в строй.
— Вы не можете быть в этом уверены, — возразила Хилари.
— В этом мире ни в чем нельзя быть абсолютно уверенным, тут я с вами согласен. Но на девяносто пять процентов я в этом уверен.
Хилари испуганно посмотрела на него.
— Но это ужасно! — воскликнула она. — Это похоже на огромное машбюро, только из ученых.
— Вот именно. Вы, сударыня, нашли очень точное определение.
— И вы собираетесь со временем снабжать учеными из этого бюро всех, кто вам хорошо заплатит?
— В принципе, да.
— Но вы же не можете распоряжаться ученым, как машинисткой.
— Почему бы и нет?
— Потому что как только ученый вновь окажется на свободе, он сможет отказаться работать на своего нового нанимателя.
— Это до некоторой степени верно. Потребуется определенная — как бы это сказать — обработка.
— Обработка? Что вы имеете в виду?
— Вы когда-нибудь слышали о лейкотомии, мадам?
— Это, кажется, операция на мозге, — наморщила лоб Хилари.
— Да, именно. Она была разработана для лечения меланхолии. Я объясню вам ее суть не в медицинских, а в общепонятных терминах. После этой операции пациенту больше не приходят в голову мысли о самоубийстве, у него исчезает чувство вины. Он становится беспечным, бессовестным и в большинстве случаев послушным.
— Однако операция не всегда бывает успешной?
— Не всегда, но мы добились большого прогресса в этой области. У меня здесь три прекрасных нейрохирурга: русский, француз и австриец. При помощи всякого рода пересадок и трансплантаций они постепенно приближаются к этапу, когда можно будет обеспечить покорность и манипуляцию сознанием без ущерба для умственных способностей. Похоже, в конце концов мы сумеем так обрабатывать человека, что при полном сохранении интеллекта он будет проявлять абсолютную послушность и соглашаться на любое сделанное ему предложение.
— Но это ужасно! — воскликнула Хилари. — Ужасно!
— Это целесообразно, — невозмутимо поправил ее мосье Аристид. — В некоторых отношениях это даже действует благотворно. Пациент становится счастливым, довольным, не испытывает ни страха, ни желаний, ни беспокойства.
— Я не верю, что до этого когда-нибудь дойдет, — с вызовом сказала Хилари.
— Chere Madame, простите, но вряд ли вы в состоянии квалифицированно судить об этом.
— То есть я не верю, чтобы удовлетворенное, внушаемое животное могло добиваться блестящих творческих результатов.
— Возможно, — пожал плечами Аристид. — Вы умны. Возможно, в чем-то вы правы, но время покажет. Опыты проводятся постоянно.
— Опыты? На людях?
— Всегда попадаются неудачники, которые не могут приспособиться к здешней жизни, не хотят сотрудничать. Из них получается хороший экспериментальный материал.
Хилари впилась пальцами в диванные подушки. Этот улыбающийся желтолицый старикашка со своими бесчеловечными взглядами внушал ей ужас. Все, что он говорил, звучало так разумно, так логично и так по-деловому, что от этого становилось еще страшнее. Это был не маньяк, а просто человек, для которого ближние стали не более чем подопытными кроликами.


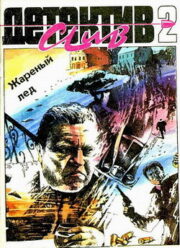


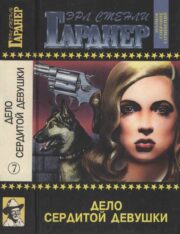
Эта книга Агаты Кристи просто потрясающая! Я был под впечатлением от истории, которая происходит в трех разных мирах. Я был под впечатлением от приключений Хикори, Дикори и Дока, которые преодолевают все препятствия и приходят к пониманию своего предназначения. Эта книга помогла мне понять, что наши мечты и желания могут быть достигнуты, если мы готовы преодолеть все препятствия и не боимся идти в неизвестное направление.