— Да, — кивнул Джессоп. — Это был последний, самый убедительный штрих. Но теперь мы знаем, что шесть или семь человек отправились в неизвестном направлении, и знаем откуда. Что будем делать — поедем на место?
— Непременно. Надо перебазироваться на передовую. Теперь, когда мы взяли след, новые данные себя ждать не заставят.
— Да, если наши расчеты верны, — согласился Джессоп, — результаты будут.
Расчеты их были тщательными и хитроумными. Скорость автомобиля, вероятные места заправки, деревни, в которых путники могли бы ночевать. Учитывая запутанность следов, разочарования случались на каждом шагу, но бывали и успехи.
— Voila, mon capitaine![203] Выполняя ваш приказ, мы провели осмотр мест общего пользования. В доме некоего Абдула Мухаммеда в темном углу уборной была обнаружена бусина, приклеенная жевательной резинкой. На допросе хозяин дома и его сыновья вначале все отрицали, однако в конце концов сознались, что у них в доме ночевали шестеро, якобы члены немецкой археологической экспедиции. Хозяевам хорошо заплатили за молчание, объяснив, что речь идет о нелегальных раскопках. Еще две бусины обнаружили дети из деревни Эль Кайф. Теперь мы знаем, в каком направлении они двигались. Но это еще не все. Как вы и предсказывали, видели и «ладонь Фатимы»[204]. Вот этот малый вам все расскажет.
«Этим малым» был на редкость свирепого вида бербер.
— Ночью, когда я охранял свое стадо, — начал он, — мимо меня проехала машина На боку у нее был знак — «ладонь Фатимы». Она светилась в темноте — клянусь, это правда!
— Перчатка, обработанная фосфором, может иногда сослужить хорошую службу, — пробурчат Леблан. — Поздравляю вас, коллега, со столь удачной идеей.
— Может, и удачная, но опасная. Фосфоресцирующий след могли заметить сами беглецы.
— При дневном свете? — пожал плечами Леблан.
— Нет, но если бы они остановились и вышли из машины в сумерках…
— Ну и что? Это распространенное арабское суеверие. Такой знак часто малюют на телегах и повозках. Все подумали бы, что какой-нибудь благочестивый мусульманин нарисовал его на своем автомобиле фосфоресцирующей краской.
— Все так, однако бдительности терять нельзя. Если наши противники заметят этот знак, они оставят для нас ложные следы в виде «ладони Фатимы» по всей пустыне.
— Тут я с вами согласен. Бдительности действительно терять нельзя ни при каких обстоятельствах.
На следующее утро Леблану принесли три бусины, приклеенные в виде треугольника к жевательной резинке.
— Это значит, — сказал Джессоп, испытующе глядя на Леблана, — что дальше они должны были лететь самолетом.
— Вы совершенно правы, — ответил тот. — Эти бусины нашли в пустыне, на заброшенном армейском аэродроме. Судя по следам, там недавно совершал посадку и взлетал самолет. Неизвестный самолет, — пожал он плечами, — летевший в неизвестном направлении. Мы опять потеряли след, и, где его искать — неясно…
Глава 15
«Непостижимо, — подумала про себя Хилари, — непостижимо, что я здесь уже десять дней!» Самое страшное в жизни — как быстро человек ко всему приспосабливается. Она вспомнила, как когда-то во Франции ей демонстрировали средневековое орудие пытки, железную клетку, в которой узник не мог ни лежать, ни стоять, ни сидеть. Тем не менее, по словам экскурсовода, последний из заключенных в ней людей провел там восемнадцать лет, был выпущен, после чего прожил еще двадцать лет, пока не умер от старости. «Именно эта приспособляемость отличает человека от животного, — думала Хилари. — Человек может существовать в любом климате, на любой пище и при любых условиях. Он может быть свободным, а может — рабом».
Попав в Учреждение, она сначала испытывала слепящий ужас, страшное ощущение несвободы и бессилия, и то, что клетка была золотой, казалось ей еще более омерзительным. Но теперь, после недельного пребывания здесь, она невольно начала воспринимать условия здешней жизни как естественные. Она жила словно во сне. Все казалось ей не вполне реальным, однако у нее уже появилось ощущение, что этот сон длится очень долго и продлится еще дольше, может быть, целую вечность… Ей придется провести здесь всю жизнь; на воле ее уже ничего не ждет.
«Отчасти эта опасная покорность объясняется тем, — думала Хилари, — что я женщина. Женщины от природы хорошо приспосабливаются — в этом их сила и одновременно слабость. Они изучают окружающую среду и, реально смотря на вещи, стараются приладиться и извлечь из нее максимум». Больше всего ее интересовала реакция людей, прибывших сюда одновременно с нею. Хельгу Неедгейм она встречала почти исключительно в столовой. При встречах немка удостаивала Хилари лишь небрежного кивка. Насколько можно судить, Хельга Неедгейм была довольна и счастлива. Учреждение явно соответствовало ее ожиданиям. Она относилась к типу женщин, поглощенных своей работой, а ее моральный дух поддерживала природная надменность. Ее символом веры было собственное превосходство и превосходство ее коллег-ученых над прочими людьми. Всеобщее братство, мир, свобода духа — это было не для нее. Будущее представлялось ей ограниченным, но всепобеждающим. Высшая раса, к которой принадлежит и она, блаженствует, остальной мир в кабале, но при условии хорошего поведения заслуживает снисходительной доброты. Если ее коллеги высказывали противоположные взгляды и их идеи были ближе к коммунистическим, чем к идеям фашизма, Хельга не обращала на это внимания. Если они хорошо работают, значит, они нужны, а идеи со временем изменятся.
Доктор Баррон был умнее Хельги Неедгейм. Иногда Хилари удавалось с ним переговорить. Он был погружен в свою работу, полностью удовлетворен созданными для него условиями, но его пытливый галльский[205] ум не мог не размышлять над обстановкой, в которую он попал.
— Я ожидал другого. Говоря откровенно, — доверительно сказал он Хилари однажды, — entre nous, миссис Беттертон, мне не нравится жить в тюрьме, а здесь — именно тюрьма, хотя решетки и обильно позолочены.
— Вряд ли это та свобода, которую вы искали? — предположила Хилари.
Он улыбнулся ей мимолетной скорбной улыбкой.
— Вы ошибаетесь. Я не ищу свободы. Я человек цивилизованный, а цивилизованные люди знают, что ее просто не существует. Только молодые и неискушенные народы пишут на знаменах это слово. Свобода должна быть ограничена во имя безопасности. Сущность цивилизации в том, что она избирает средний путь, компромисс, к которому мы все и приходим. Нет, буду с вами откровенен. Я приехал сюда из-за денег.
Тут наступила очередь улыбнуться Хилари.
— И что вы будете здесь с ними делать?
— Тратить на дорогое лабораторное оборудование. Таким образом я могу служить науке и удовлетворять собственное интеллектуальное любопытство. Поверьте, я люблю свою работу, но я люблю ее не ради блага человечества. Я много раз убеждался, что таким образом рассуждают люди ограниченные и не преуспевшие на своем поприще. Нет, я ценю саму радость исследования. Что до остального, то мне еще перед отъездом из Франции была выплачена крупная сумма. Эти деньги положены в банк на чужое имя, и со временем, когда все это закончится, я смогу тратить их по своему усмотрению.
— Когда все это закончится? — переспросила Хилари. — А с чего бы это вдруг могло закончиться?
— Здравый смысл подсказывает, что нет ничего вечного, все преходяще. Я пришел к выводу, что этим заведением заправляет безумец. Безумцы, должен вам сказать, могут вести себя вполне осмысленно. Если человек безумен, но при этом неглуп и богат, он может очень долго тешить свои иллюзии, но в конце концов, — Баррон пожал плечами, — в конце концов все рухнет. Видите ли, то, что происходит здесь, неразумно, а за неразумие всегда приходится платить. Ну, а пока что, — он вновь пожал плечами, — меня это вполне устраивает.
Торкил Эриксен, которого Хилари ожидала увидеть разочарованным, напротив, чувствовал себя в Учреждении как рыба в воде. Будучи менее практичным, чем француз, он существовал в собственном замкнутом мирке, настолько чуждом Хилари, что она даже не пыталась его понять. Этот мирок давал норвежцу нечто вроде аскетического счастья, всецелую поглощенность математическими вычислениями и бесконечную перспективу возможностей. Эта странная одержимость Эриксена пугала Хилари. Он был из тех молодых людей, которые в порыве идеализма могут отправить на смерть три четверти человечества, чтобы оставшаяся четверть приобщилась к утопии, существующей только в воображении Эриксена и ему подобных.
Гораздо уютнее Хилари чувствовала себя с Энди Питерсом, возможно, как догадывалась она, потому, что Питерс был хотя и талантлив, но не гениален. Из разговоров она поняла, что он мастер своего дела, опытный и аккуратный химик, но не первооткрыватель. Питерса, как и ее саму, атмосфера Учреждения одновременно угнетала и пугала.
— По правде говоря, я не знал, куда еду, — признался он. — Думал, что знаю, но ошибался. Наша партия к этому никакого отношения не имеет, связи с Москвой у этого заведения нет. Это частная, возможно фашистская, лавочка.
— Не кажется ли вам, — сказала Хилари, — что вы чересчур торопитесь наклеивать ярлыки?
Питерс, казалось, взвешивал в уме ее замечания.
— Пожалуй, вы правы, — согласился он. — Слова, которыми мы бросаемся, недорого стоят. Но я точно знаю одно: я хочу отсюда вырваться и намерен это сделать.
— Это будет нелегко, — тихо сказала Хилари.
Они прогуливались после ужина на крыше, у плещущих фонтанов. Бетонных функциональных зданий не было видно, а сумерки и звездное небо создавали иллюзию сада в каком-нибудь султанском дворце.
— Нелегко, — кивнул Питерс, — но на свете нет ничего невозможного.
— Я рада слышать это от вас, — прошептала Хилари. — Я счастлива, что вы думаете об этом!




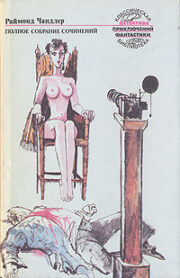
Эта книга Агаты Кристи просто потрясающая! Я был под впечатлением от истории, которая происходит в трех разных мирах. Я был под впечатлением от приключений Хикори, Дикори и Дока, которые преодолевают все препятствия и приходят к пониманию своего предназначения. Эта книга помогла мне понять, что наши мечты и желания могут быть достигнуты, если мы готовы преодолеть все препятствия и не боимся идти в неизвестное направление.