Она вернулась домой как раз к чаю и, лишь открылась входная дверь, поняла, что случилось. У служанки было испуганное лицо, и она, неловко держась за ручку двери, старалась не смотреть Дженифер в глаза. На столике в холле лежала мужская шляпа. Дженифер заглянула в столовую и увидела, что к чаю не накрыто. Из гостиной вышла одна из постоялиц, но стоило ей увидеть Дженифер, как губы ее странно задрожали, и она, отступив назад, осторожно затворила за собой дверь. У нее были покрасневшие глаза.
Сердце Дженифер болезненно сжалось. Нельзя показывать служанке, что она догадалась.
– Где мама? – спросила она.
– Наверху с бабушкой… кажется, она не совсем… не совсем здорова, – ответила женщина и украдкой скользнула вниз по лестнице.
Дженифер с минуту стояла в нерешительности: может быть, лучше выбраться из дома и убежать куда-нибудь далеко, так она никогда не узнает, что это действительно правда. Боясь услышать страшную весть, она вошла в туалет первого этажа и заперлась в нем. Здесь ее никто не найдет. Она опустилась на колени и стала молиться. «Господи, прошу Тебя, пусть это не будет Гарольд или Вилли, Господи, прошу Тебя, пусть это будет только мое воображение». Она поднялась с колен, приложила ухо к двери и прислушалась.
Минут через двадцать она услышала, как кто-то тяжело спускается по лестнице. Шаги пересекли холл и направились в гостиную. Дверь закрылась. Все стихло. Дженифер знала, что это бабушка. Стараясь не шуметь, она отворила дверь и вышла в холл. Бесполезно, она больше не может ждать. Она должна узнать правду. Дженифер, крадучись, поднялась по лестнице, подошла к комнате матери и прошмыгнула внутрь; сердце ее бешено билось, руки были липкие от пота.
В комнате было темно, портьеры задернуты.
Дженифер словно сквозь туман увидела фигуру матери, лежащую на кровати. Боясь, что ее заметят, она, затаив дыхание, остановилась у двери. Занавеска на окне колыхнулась и зашуршала о стекло. С кровати донесся приглушенный звук, и фигура шевельнулась.
Мать заговорила глухим, незнакомым голосом.
– Это ты, Дженни?
– Да, мама.
Молчание, она ждала… ждала, сердце ее тяжело билось, в горле пересохло.
Вдруг она почувствовала слабость в ногах.
– Дорогая, Гарольда убили…
– Да, – прошептала Дженифер. – Да, я знаю.
На миг ее охватило страстное желание броситься к лежащей на кровати фигуре, лечь рядом с ней, крепко ее обнять, сделав тем самым робкий шаг к примирению, к началу дружбы, любви, понимания. Тогда она еще не понимала, что от этого краткого мгновения может зависеть все их будущее.
Но Дженифер была слишком застенчива.
Она бесшумно выскользнула из погруженной в тишину комнаты и, сжавшись калачиком, села на пол в коридоре; по ее щекам и подбородку текли горячие слезы…
Дженифер внезапно проснулась. Ей показалось, что пушка выстрелила совсем рядом, почти у самого ее уха. Через несколько секунд стены дома задрожали от еще одного выстрела. Она села на кровати и протянула руку за халатом. Сигнал, к которому она уже давно привыкла, всегда внушал ей ужас, пробуждал холодный, безотчетный детский страх. Завыли сирены. Высокие, пронзительные звуки, сливаясь в единый кошмарный вопль, окончательно разбудили ее; она выпрыгнула из кровати и, заткнув уши пальцами, как безумная, бросилась к двери. Три служанки уже покинули свои унылые комнаты под крышей и с грохотом спускались по лестнице. Их неуклюжие фигуры являли собой какое-то фантастическое зрелище. Эта грузная круглолицая женщина, дрожащими руками вцепившаяся в свой фланелевый халат, даже отдаленно не напоминала кухарку, придирчивую распорядительницу кухни меблированных комнат с пансионом. Сейчас в ее внешности было что-то болезненно личное, что-то шокирующее. Стараясь не смотреть ей в глаза, Дженифер вежливо улыбнулась. На лестничной площадке появилась мать; она помогала бабушке, чудовищной, отталкивающей фигуре в красном халате.
Из комнат выходили обитатели пансиона: полуодетые, с наспех подобранными волосами и с мазью в уголках носа женщины и только двое оставшихся в пансионе мужчин, старый мистер Хобсон, который при ходьбе всегда выставлял живот вперед, и мистер Веймес, у которого было только одно легкое, благодаря чему его не забрали в армию. Его длинный, красный нос шумно втягивал воздух, а бесцветные, водянистые глаза, казалось, говорили: «Видите ли, право, не моя вина, что я здесь». Все спустились в подвал, где были уже приготовлены складные табуреты и коврики. Все вместе они казались нелепой маленькой компанией нервных женщин и слишком улыбчивых мужчин, чьи лица желтели в тусклом свете свечи. Дженифер сидела рядом с матерью, стуча зубами. Как ни странно, страшно ей не было, но… но она не могла ни унять дрожь, ни совладать с зубами. Несмотря на все ее усилия, они все стучали и стучали. Тишина – вот чего она не могла вынести, тишина, напряжение слуха, чтобы хоть что-нибудь услышать, и безуспешные старания догадаться, что происходит там, наверху.
– Слушайте! Вы слышали? – раздался голос одного из постояльцев.
Теперь воздух полнился звуками. Сперва прозвучало оглушительное эхо от выстрела пушки в Хампстеде, за ним последовал глухой гром и равномерный грохот других пушек. Дженифер закрыла глаза и прижала руки к животу.
Это никогда не кончится, это будет продолжаться вечно, и она увидит конец света.
Пушки ненадолго замолкли, и их сменило высокое, тонкое жужжание, которое ни с чем не спутаешь, отдаленное, но неотвратимо приближающееся монотонное жужжание пчелиного роя.
Во тьме кто-то прошептал:
– Это готы, они прямо над нашими головами.
Снова ударили пушки, оглушая мир разрывами.
Дженифер казалось, что она сидит в подвале с самого дня творения и, сколько себя помнит, в ее жизни не было ничего кроме этого. Настанет день, так ей сказали, и все кончится. Настанет день, когда не будет войны.
Ей уже двенадцать, она взрослая и все понимает.
Война убила Гарольда и Вилли. Когда-то они были живыми, они смеялись, играли с ней, она могла их потрогать, зная, что они настоящие; все, что от них осталось, это две телеграммы да два письма от незнакомых офицеров. Сколько бы ни звала она их в минуты одиночества, они не придут. Скоро их фотографии покажутся такими же нереальными, как фотографии папы. Они навсегда останутся мертвыми. Став взрослой женщиной, она будет изредка бросать на них взгляд и видеть лица более молодые, чем ее собственное лицо, пожелтевшие и непривычно старомодные… «Да, они были моими братьями».
Они станут куда менее подлинными, чем забытая игрушка, случайно найденная в старом шкафу, пыльная и словно укоряющая за небрежение к ней.
Гром пушек начал стихать, время от времени слышался приглушенный гул, который наконец перешел в отдаленный, полный угрозы рокот.
Дженифер ясно представила себе, как, становясь старше, она оставляет папу и братьев в туманном прошлом, отдаляется от них, идя навстречу незнакомым лицам, новым мыслям, и в минуты покоя вспоминает о них почти с таким же равнодушием, как о заброшенных детских книжках с вырванными картинками, о коробках с засохшими красками, о безногом игрушечном медвежонке, о платьях, из которых давно выросла.
А Плин превращается в расплывчатую картину, на которой с трудом можно различить море, высокие холмы и бегущую через поле тропинку.
Как ужасно быть взрослой, как ужасно не смеяться над тем, что действительно смешно, не хотеть побежать со всех ног и думать забыть строить из себя мальчишку и, вместо того чтобы наносить шпагой удары деревьям, чинно ходить, еле передвигая ноги. Не ворошить осенние листья в канавах, не шлепать по лужам, не колотить палкой по перилам, не устраивать шалашей из перевернутых стульев и чехлов от мебели, не готовить еду из веточек и травы, не срывать лепестки маргариток, чтобы слепить из них картофелину. Никогда больше не ходить, засунув руки в карманы, напевая себе под нос и предвкушая встречу с невероятным приключением за ближайшим углом.
Вот какие мысли беспорядочно мелькали в голове Дженифер, пока она, закрыв глаза и стуча зубами, сидела, скрючившись на складном табурете.
Все стихло, гул и рокот орудий прекратился. Неожиданно, как шепот, как слабое эхо, прозвучал долгожданный сигнал горна.
Две короткие ноты повторились дважды и затерялись в дальних улицах.
«Отбой… Отбой…»
Глава седьмая
Дженифер оставалась в школе, пока ей не исполнилось семнадцать лет. В конце войны ей было двенадцать, и за следующие пять лет она быстро развилась телом и умом, забыла о детской застенчивости и робости и вполне осознала силу духа, до той поры таившуюся в ней. В школе она проявляла усердие, когда имела к тому склонность, но всегда оставалась равнодушной к занятиям, словно получение образования было для нее не более чем способом времяпрепровождения. Учителя ничего не могли с ней поделать.
Она окончила школу в конце летнего семестра 1923 года и после ежегодных отчаянно скучных каникул на море, на сей раз в Феликсстоу, вновь оказалась на Мэпл-стрит в доме номер семь, где ее ждала перспектива пустых, ничем не заполненных дней. Бабушка, которая теперь просто сидела в кресле в столовой и оттуда отдавала распоряжения, посоветовала ей помогать матери в заботах о пансионе и сказать спасибо за то, что благодаря ее щедрости ей не приходится бродить по улицам в поисках работы.
– К тому же, Дженифер, полагаю, ты отдаешь себе отчет в том, что тебе очень повезло: все эти годы ты получала прекрасное образование, чувствовала себя здесь как дома и в свои семнадцать лет пользовалась свободой, о которой твоя мать в твоем возрасте, могу тебя уверить, и думать не смела.
Дженифер оторвалась от книги и посмотрела на бабушку. Она уже так привыкла к подобным речам, что они не производили на нее никакого впечатления.
– Не знаю, какую свободу вы имеете в виду. Единственная разница в том, что я одна езжу в метро и на автобусах, чего мама не делала. Во всем остальном, как мне кажется, моя жизнь ничем не отличается от ее жизни.


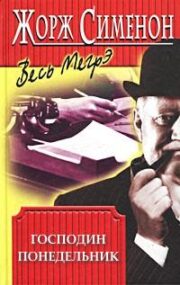


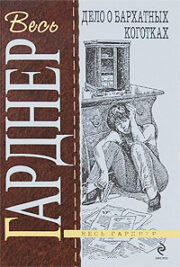
Очень мощное и глубокое чтение.
Настоящее произведение искусства.
Очаровательная история о любви.
Невероятно притягательный сюжет.
Дух любви проникает в душу.
Великолепное произведение Дафны дю Морье!