В моей жизни все так или иначе сводится к деньгам. Но Господи Боже ты мой! Я ведь не создан из денег. Мне помимо денег многое другое дорого. Мне дорога моя жена - не важно, как она со мной поступила.
- Как, по-вашему, она с вами поступила?
- Она ограбила меня и предала. Но я способен простить ее. Это правда. И обязан простить не только ради нее, но и ради той девочки в Бостоне. Вы меня не знаете, Гуннарсон. Вы не знаете, как глубоко коренится во мне зло. Но столь же глубока и моя способность прощать.
На него рушился один нравственный удар за другим, но переносил он их скверно. Я сказал:
- Обсудим это завтра. Прежде чем принять окончательное решение, вам следует собрать все факты, касающиеся вашей жены, того, что она делала.
Он сжал руки на коленях в кулаки и крикнул хрипло:
- Мне безразлично, что бы она ни делала!
- Все-таки это зависит от тяжести её преступления.
- Нет. Не говорите этого!
- Вы все еще готовы принять её так, словно ничего не произошло?
- Если бы я мог добиться её возвращения. По-вашему, есть шансы? - Кулаки на коленях разжались, пальцы попробовали ухватиться за воздух.
- Шансы есть всегда, мне кажется.
- То есть положение вы считаете безнадежным, - отрезал Фергюсон. - А я нет. Я знаю себя. Знаю мою жену. Холли - заблудившийся ребенок, который наделал глупостей. Я способен простить её и уверен, что мы можем попробовать заново.
Глаза его сияли фальшивым эйфорическим светом, и мне стало не по себе.
- Сейчас бессмысленно обсуждать это. Я еду в один городок, где надеюсь узнать что-нибудь определенное о её прошлом, о её связи с Гейнсом. Вы можете до завтра полностью отключиться? Вообще ни о чем не думать?
- Куда вы едете?
- В городок под названием Маунтин-Гроув. Холли его когда-нибудь упоминала?
- По-моему, нет. А она прежде жила там?
- Не исключено. Утром я все вам доложу. До утра вы продержитесь?
- Конечно, - сказал он. - Я не бросил надеяться, вовсе нет. Я преисполнен надежды.
Или отчаяния, такого острого, подумал я, что он даже не ощущал, как оно в него въедается.
22
Горы, от которых городок получил название Маунтин-Гроув , возвышались на юго-западном горизонте, как безглазые гиганты. Их огромную темноту и колоссальную темноту неба беспутным пунктиром нахально прострочили фонари главной улицы.
Она была точным подобием сотен других главных улиц небольших городов в стороне от побережья: закрытые на ночь продовольственные магазины и магазины готовой одежды, еще открытые рестораны, бары и кинотеатры. Правда, на тротуарах, пожалуй, было больше людей, а на мостовой - больше машин, чем в обычном городке после девяти вечера. Пешеходы по большей части были в шляпах и сапогах с каблуками, какие носят на ранчо. Молодые люди за рулем гнали свои машины так, словно их армию обратили в паническое бегство.
Я остановился у бензоколонки, купил бензина на два доллара, разменяв мою последнюю десятидолларовую бумажку, и попросил у владельца разрешения заглянуть в телефонную книгу. Он был стар, с лицом красным, как индюшачий гребень, и глазами как два кусочка слюды, которыми он впивался в меня на случай, если бы мне вздумалось утащить книгу, прикованную цепочкой к стенке.
Из книги следовало, что миссис Аделаида Хейнс проживает в доме номер 225 по Канал-стрит, как значилось и в адресе, записанном миссис Уэнстайн. Краснолицый старик объяснил мне, как туда добраться. По городу, как ни душило меня волнение, я ехал, строго соблюдая ограничение скорости.
Канал-стрит была обсажена деревьями, за которыми стояли дома, построенные лет тридцать назад. Номер 225 оказался деревянным бунгало с фонарем на веранде, свет которого, зеленея, просачивался сквозь густую завесу плюща, доходящую до карниза. В окне у двери белела карточка и, поднимаясь по ступенькам, я прочел: «Уроки пения и игры на фортепьяно».
Я нажал кнопку звонка рядом, не услышал внутри никакого звука и постучал в затянутую металлической сеткой дверь. Дыры в сетки были небрежно заделаны чем-то, смахивавшим на шпильки для волос. Внутреннюю дверь открыла пожилая женщина, чего я и ожидал, памятуя о шпильках.
Она была высокая, с хрупкими костями и тонкая до голодной худобы. Лицо и шея загрубели от долгих лет под калифорнийским солнцем, и прижатые к горлу пальцы, казалось, ощущали это. И все-таки в ней чувствовалось умение держаться и какая-то упрямая моложавость. Уложенные кольцами густые черные волосы были как свернувшиеся во сне опасные воспоминания.
- Миссис Хейнс?
- Да, я миссис Хейнс. - Жилы у нее на шее напряглись, точно канаты лебедки, поднимающей звуки из гортани. - А кто вы, сэр?
Я протянул ей мою карточку.
- Уильям Гуннарсон, адвокат в Буэнависте. Если не ошибаюсь, у вас есть сын Гарри.
- Генри, - поправила она. - Я называла его Гарри, когда он был ребенком. Но теперь он взрослый, и его имя - Генри.
- Я понимаю.
В её жеманные интонации вплеталась дисгармонирующая дикая нота, и я внимательнее вгляделся в её лицо. Она улыбалась - но не так, как улыбаются матери, говоря о своих сыновьях. Её губы казались сдвинутыми по отношению к костям лица. Они были открыты и скошены в кривой усмешке.
- Генри нет дома, как вы, конечно, знаете. - Она поглядела мимо меня на темную улицу. - Он уже много лет не живет дома. Но вы же это знаете. Он живет в Буэнависте.
- Разрешите, я войду, миссис Хейнс? Возможно, вас заинтересует то, что я вам скажу. Мне очень хотелось бы поговорить с вами.
- Я здесь совсем одна. Но, разумеется, вы понимаете это. Мы будем с вами совсем вдвоем.
Нервный смешок вырвался из-под ладони, с запозданием прижатой ко рту. Помада перекочевала на пальцы. Они дрожали, как камертон, все время, пока она отпирала дверь из сетки.
Я вошел, и меня обдало её духами. Она была надушена так крепко, что казалось, скрывала за этим свой страх.
Следом за ней я вошел в довольно большую комнату, которая явно предназначалась для занятий музыкой. У внутренней стены стояло пианино того же возраста, что и дом. С мохерового кресла, подвергавшегося потрошению, взвился сиамский кот, повис в воздухе, сверкая на меня золотистыми глазами, затем оттолкнулся от ручки раскоряченного кресла, собрав все четыре ноги вместе, как горный козел, приземлился на табурете перед пианино, взял гневный аккорд и взлетел на крышку. Там, попетляв между метрономами и пюпитрами, он скорчился позади старомодной фотографии девушки в шляпе колоколом.
Фотография была превосходной. Надменная красота девушки бросалась в глаза, как маска гордости и боли.
- Снято в Сан-Франциско, - сказала миссис Хейнс светским тоном. - Лучшим фотографом города. Я была очень красива, не правда ли? Я давала концерты в Сакраменто и Окленде. Оклендская «Трибьюн» предсказывала мне большое будущее. Затем, к сожалению, я потеряла голос. Одно несчастье следовало за другим. Мой второй муж выпал из окна как раз тогда, когда он успешно завершал крупную биржевую операцию. Мой третий муж покинул меня. Да, покинул. И предоставил мне содержать и растить нашего младенца сына на то, что еще приносила мне музыка.
Это был монолог из пьесы - пьесы, разыгрываемой тенями в театре её сознания. Она стояла рядом с пианино и декламировала монотонным голосом без малейшего чувства и выражения.
- Но ведь вы все это знаете, не правда ли? Я не хочу занимать… надоедать вам своими печалями. Во всяком случае, у медалей есть другая сторона и ад имеет свои пределы. - Она улыбнулась той же расплывчатой улыбкой. - Садитесь же, не будьте так робки. Разрешите, я угощу вас кофе. У меня еще сохранилась моя серебряная кофеварка.
- Благодарю вас, не утруждайте себя.
- Боитесь,, я подолью отраву вам в чашку? - Возможно, это была милая шутка, но она провалилась с треском, а миссис Хейнс продолжала, словно про отраву сказал кто-то другой, какой-то невидимый третий: - Как я уже говорила, жизнь дарит и приятные неожиданности.
Например, ко мне возвращается голос, как иногда бывает, когда женщина достигает полного расцвета. - В доказательство она надтреснуто пропела гамму, села за пианино и швырнула в комнату мешанину нот, резанувших слух, как аккорд, взятый котом. - С тех пор как мои ученики и ученицы оставили меня, - впрочем, все на редкость бездарные, - я получила возможность работать над своим голосом и даже сочинять музыку. Слова и музыка приходят ко мне вместе из воздуха. Вот так. - Она прищелкнула пальцами, извлекла из инструмента еще один нестройный звук и запела, импровизируя: - Из воздуха мая, измены не зная, принес ты любовь мне без дна и без края… Две песни в течение пяти минут!
- А другая?
- «Совсем вдвоем», - ответила она. - Едва я произнесла эти слова, как они запели во мне. - Она вновь повысила голос в столь же немелодичной мелодии. - Совсем вдвоем с тобой я, блаженство дорогое, и телефон не зазвонит, нас беспокоя.
Она засмеялась и повернулась на табурете ко мне. Кот воспарил на её плечо, как легкий клочок бурого меха, сбежал по ней на пол и расположился между её туфлями на высоком каблуке.
- Он ревнует, - сказала она со своим нервным смешком. - Он видит, что меня влечет к вам.
Я сидел на ручке выпотрошенного кресла, напустив на себя самый неприступный вид, какой мог.
- Мне надо бы поговорить с вами о вашем сыне, миссис Хейнс. Вы не против?
- Напротив, - сказала она. - Это большое удовольствие. Нет, я серьезно. Соседи не верят, когда я рассказываю им, как Гарри преуспевает. Они думают, будто я живу своими снами. Правда, мне редко выпадает случай побеседовать с культурным человеком. Район этот утратил былую избранность, и я серьезно подумываю о том, чтобы переехать.
- Переехать куда? - спросил я в надежде направить её мысли в более реалистическое русло.



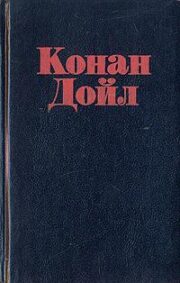

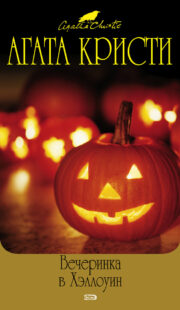
"Дело Фергюсона. Финт" отзывы
Отзывы читателей о книге "Дело Фергюсона. Финт", автор: Росс МакДональд. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Дело Фергюсона. Финт" друзьям в соцсетях.