– Шумнейший, неугомоннейший и гениальнейший дьяволюга, – говорил, смеясь, Кики и усаживал Швейцарца рядом с собой; Швейцарец, уже успевший пропустить стаканчик-другой, настаивал на том, чтобы угостить всех присутствовавших за свой счет.
«Все это, конечно, славно и весело, – размышлял Том Армстронг, – и, полагаю, развлекаться так из вечера в вечер очень забавно, вот только это никак не приближает Кики к его цели».
Он думал о рисунках и набросках, которые видел в мастерской, – все они свидетельствовали о недюжинном таланте, но ни один из них не был закончен.
– Да ты видел, чтобы я закончил хоть что-нибудь, кроме сигары? – осведомился Кики как-то раз, а потом отошел к роялю и начал что-то наигрывать одним пальцем.
Он плыл по течению, и если позволит себе плыть еще сколько-то, то ни к чему другому уже не будет способен. Как ему не хватает материнского упорства и силы воли, думал Том Армстронг. Уж эта дама – из чистого железа! Нос всегда по ветру, глаз как у орла. Никогда и на пять минут не оставляет его, Тома, наедине с Изобель…
Зима и весна миновали, а в творчестве Кики так ничего и не добился. Он начал делать серию иллюстраций к «Королевским идиллиям»[92], но где же в Дюссельдорфе сыскать натурщиков для образов Ланселота и Гвиневеры?
Армстронг продолжал уговаривать его ехать в Англию – сам он собирался туда в мае, – но Кики все никак не мог решиться.
Он словно ждал, что кто-то другой примет за него окончательное решение; собственной воли у него будто и не было. Он пока даже не обсуждал это с матерью, и вся затея висела в воздухе. Он твердо знал, что мама не захочет возвращаться в Лондон: на континенте они с Изобель смогут жить куда более экономно.
А потом, сразу после Пасхи, он вдруг решился – будь что будет, он едет в Англию; причем решение это странным образом совпало с приездом в Дюссельдорф друзей Изобель, Уайтвиков, – в начале мая они собирались вернуться домой.
Поначалу Кики тушевался в присутствии Эммы. Она выглядела даже миловиднее, чем на миниатюре, которую он тайком от всех носил в кармане жилета, будто талисман. Она оказалась очень высокой, совсем взрослой, и он уже не смел ее дразнить, как дразнил когда-то школьницу с косичками; впрочем, в повадке ее сквозили такая серьезность, ласковость и обаяние, что он скоро забыл про смущение, начал показывать ей наброски и даже делиться своими смелыми планами, которых не поверял больше никому, кроме Тома Армстронга.
О мисс Льюис он, можно сказать, позабыл вовсе, попросту выбросил ее из головы. Это стоило Эллен и Изобель, которые встречались с Льюисами каждый день, многих неловких минут: им приходилось оправдываться за Кики, говорить, что он очень занят. В один такой день, едва представив мисс Льюис благовидную причину его отсутствия, они все вместе возьми и натолкнись на Кики, который прогуливался с Эммой и ее матерью в дюссельдорфских садах. Мисс Льюис жарко покраснела и почти сразу же под каким-то предлогом поспешила домой. Все это на людях, чрезвычайно неловкая сцена. Эллен пыталась понять, не связал ли Кики себя какими-то обязательствами. Да, это, конечно, очень мило со стороны Кики – показывать Уайтвикам красоты Дюссельдорфа, но почему он делает это один? Почему не собрать большую компанию и не пригласить и Льюисов?
Изобель предположила, что Кики увлекся Эммой. Сущий вздор! Эмма почти ребенок. Милый, добросердечный ребенок, но она совершенно не в его вкусе. Какие Изобель говорит глупости! Нет, Кики просто бестактен и бездумен; ему следовало посоветоваться с матерью, преж де чем вступать с Уайтвиками в такие странные отношения. Она с ним еще об этом поговорит.
Поговорила – но на удивление не нашла в нем никакого отклика. На укоры по поводу мисс Льюис он только пожал плечами и сказал, что она всегда была ему безразлична и он ни в коем случае не давал ей надежды. Ну а раз ситуация сложилась такая неловкая, лучше всего ему просто уехать из Дюссельдорфа.
Он, видите ли, очень серьезно говорил с Томом, и Том считает, что в Лондоне его ждут самые лучезарные перспективы. Если его рекомендуют в какую-нибудь газету в качестве иллюстратора, о будущем можно будет не беспокоиться. Не исключено, что его даже пригласят сотрудничать в «Панч». Если мама одолжит ему десять фунтов, он обязуется вернуть ей долг в течение трех месяцев. В Лондоне он найдет дешевое жилье и будет трудиться как каторжный. Кстати, Уайтвики уже пригласили его пожить у них – когда он обсуждал с ними эти планы; он ответил отказом, но миссис Уайтвик любезно предложила столоваться у них и вообще обещала за ним приглядеть.
Поначалу Эллен не знала, что и сказать. Кики будет жить в Лондоне, без ее присмотра, – нет, она все-таки этого не одобряет. Миссис Уайтвик, конечно, добрая душа, но она, разумеется, не сможет занять место матери. С другой стороны, она прекрасно видела, что в Дюссельдорфе Кики топчется на одном месте, а поскольку глаза его больше не требуют столь пристального внимания, то его дальнейшее пребывание здесь, конечно же, бессмысленная трата времени и столь ценных средств. Если он сможет на себя зарабатывать, для нее это станет огромным облегчением и она сможет лучше заботиться о бедняжке Изобель. В конце концов, бедную девочку не мешало бы приодеть, раз уж она бывает в обществе, – а если она не станет бывать в обществе, как она найдет себе мужа?
От Джиги никакой помощи точно не дождешься. Он с трудом сводит концы с концами в Сомюре – где уж ему думать про будущее сестры. А вот если Кики пробьется и преуспеет в Англии, он наверняка станет оказывать семье материальную помощь. Если, конечно, не женится. Впрочем, жениться, не имея реальных видов на будущее, – в высшей степени неразумно. Он уверяет, что никаких чувств к старшей мисс Льюис не испытывает, но ведь он оказывал ей внимание. Бедная барышня очень скверно выглядит в последние недели – с тех самых пор, как Кики стал проводить все свободное время с Уайтвиками. Это, конечно, не имеет никакого значения, но все же… О господи, что за комиссия – быть матерью большого семейства. Одни сплошные треволнения с утра до ночи. Луизе, не обремененной семьей, куда легче, пусть и бывает одиноко.
– Ты должен сам принять решение, – произнесла наконец Эллен, после того как посидела некоторое время, нахмурившись, что-то бормоча и цокая языком. – Я согласна дать тебе десять фунтов на поездку в Лондон – с условием, что расходовать их ты будешь крайне осмотрительно. Что же до нас с Изобель, я считаю, что мы сможем жить здесь более чем экономно – по крайней мере, некоторое время, пока не станет ясно, преуспел ты или нет.
Решение было принято – и Кики испытал глубочайшее облегчение. Он чувствовал, что в Дюссельдорфе попусту теряет время в нужде и безвестности, а значит, пора ехать в Лондон – или пан, или пропал. Если пропал – тогда остальное уже и не важно; если пан – ну, тут уж мы поглядим! Первое, что он сделает, – вернет матери ее десять фунтов.
Его обуяло страшное нетерпение. Уже настал май, в Дюс сельдорф и Графрат начали съезжаться на лето визитеры. Все те же знакомые лица мелькали в садах, в ресторанах, на концертах. В прошлом году это его занимало, теперь же атмосфера казалась удушливой – все то же самое, все лишено смысла. Веселье казалось вымученным, поверхностным, неискренним. Он сам не мог понять, как раньше терпел этих немецких принцев, что находил в них занимательного. Все они такие жирные, перекормленные. Какими блеклыми казались здешние дамы рядом с Эммой Уайтвик! Да, она еще очень юна и неопытна, но внешностью и обаянием даст любой сто очков вперед – мисс Льюис ей и в подметки не годится. Хорошо бы еще мисс Льюис не смотрела на него с такой укоризной: прямо чувствуешь себя подлецом. Черт возьми, да он ей никогда ничего не обещал! Можно подумать, они помолвлены. Страсть как неловко. Том был с ним согласен. Уйди красиво, наставлял его Том, в сложившихся обстоятельствах тебе больше ничего не остается. Скажи, что вы с ней друзья навек, мол, счастлив будешь при случае встретиться с ней в Лондоне, поблагодари за то, что она скрасила тебе зиму в Дюссельдорфе, а после вежливо откланяйся. Итак, воспоследовали официальные прощания – не без налета неловкости, особенно когда младшая мисс Льюис приняла их с Томом довольно холодно и сообщила, что у сестры ее разболелась голова: она легла в постель и спуститься не сможет. В определенном смысле так оно было проще, но, с другой стороны, ситуация была слишком уж очевидной. Кики подумал, не стоит ли все-таки потребовать встречи и тут же, на месте, сделать ей из чистой вежливости предложение. Не в состоянии он был никого обижать!
– Такт – дело хорошее, но не до такой же степени, – объявил Том и потащил его в кафе выпить напоследок по рюмочке.
Мать, разумеется, до полуночи не давала ему лечь, засыпая советами касательно здоровья и образа жизни – что ему делать дозволительно, а чего нельзя делать ни в коем случае. Будь он невестой накануне венчания, и то вряд ли бы ее наставления были столь же подробны и категоричны.
Кики улыбался, произносил «да» и «нет» и целовал ее в щеку. Соглашаться было куда проще, чем спорить, а еще он гадал, считать ли себя неблагодарным за то, что его так прельщает будущая одинокая лондонская жизнь, самостоятельная и независимая, без постоянных перекрестных допросов, от которых в семье, похоже, никуда не деться.
Да, собственно, такой уж одинокой жизни в Лондоне и не предвидится; рядом будет старина Том, да и другие парижские приятели, в том числе Тэмми, Пойнтер и Джимми Уистлер. Все они как раз в это время перебирались в Англию – все, кому предстояло сказать свое слово в искусстве. Они, как и он, поняли, что в Париже и Антверпене хорошо учиться, но, если хочешь создать себе имя и стать видной фигурой, дорога тебе в Лондон.
Настало утро; все слова прощания были сказаны. Изобель наказали не флиртовать слишком откровенно с немецкими принцами, а пожилую матушку пожурили за то, что в уголке глаза у нее блеснула слеза; после этого отъезжающие – Кики, Том Армстронг, миссис Уайтвик и Эмма – погрузились на рейнский пароходик, который должен был доставить их в Роттердам.


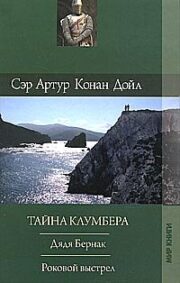
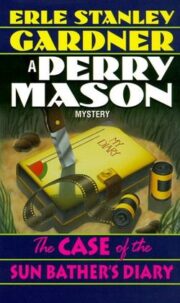
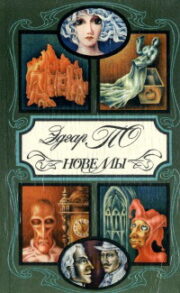

"Берега. Роман о семействе Дюморье" отзывы
Отзывы читателей о книге "Берега. Роман о семействе Дюморье", автор: Дафна дю Морье. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Берега. Роман о семействе Дюморье" друзьям в соцсетях.