Эллен попыталась на него нажать – чтобы он взял на себя хотя бы эти расходы, однако оказалось, что таких денег у него нет, и ей пришлось выслать Изобель на дорогу пятнадцать фунтов из своих октябрьских дивидендов. Эллен несколько удивило то, что полковник Гревиль не предложил свою помощь. Он прекрасно знал все их обстоятельства, однако, по словам Изобель, ни разу даже не упомянул о ее предстоящей поездке, а за несколько дней до ее отъезда в Германию преспокойно отбыл в Брайтон. А ведь его бы это никак не стеснило, помимо всего прочего, он холостяк и всегда так внимателен к Изобель, так что Эллен порой даже подумывала… Впрочем, что уж теперь об этом говорить. Будь у него подобные намерения, он бы давно уже их высказал.
«Наконец-то приехала Изобель, – писала Эллен Луизе в середине октября, – и я рада сообщить, что, с тех пор как мы виделись в последний раз, она во всех отношениях изменилась к лучшему. Подумать только, целых два года пролетело. У нее заметно улучшился цвет лица, кроме того, она сильно поправилась – пожалуй, даже чрезмерно для ее роста.
Впрочем, здоровье ее всегда будет хрупким, и из того, что я вижу, совершенно ясно, что она никогда не сможет выносить тяготы жизни гувернантки. Кроме того, ей не хватает соответствующего образования. Нет, средства к существованию, если ей придется самой себя содержать, она должна добывать музыкой. Ее игра меня весьма удивила. Исполнение прекрасное, хотя и видно, что она недостаточно упражняется. Уверена, что в Дюссельдорфе не найдется преподавателя, который сможет научить ее чему-то, чего она уже не знает сама. Она сыграла мне очень сложную вещь на пятнадцати страницах, причем с листа. Я взяла ей абонемент в музыкальную библиотеку, каждый день она сможет брать по две новые вещи. В последнее время она много бывала в обществе, в Милфорде и в других местах, и это пошло ей на пользу – манеры у нее непринужденные и чрезвычайно достойные, а самое главное, дорогая моя Луиза, мысли ее столь же чисты, как в тот день, когда она впервые разлучилась с матерью. Я могу полностью ей доверять. Даже окажись она в окружении всех этих офицеров – а уж они великие мастера любезничать, – я и то не испытывала бы ни малейшего беспокойства. Словом, есть за что благодарить судьбу. Она здорова, добронравна – чего еще желать матери?»
И действительно – чего? Только одного: чтобы дочь сумела найти себе мужа. Время покажет, удастся ли Изобель преуспеть и в этом. Мать ее опасалась, что не удастся. Передние зубы портили ее лицо. Эллен боялась, что они и вовсе выпадут: и с собственными зубами совсем не просто выйти замуж, а уж со вставными – и подавно.
Изобель окунулась в веселое общество дюссельдорфской молодежи без всяких мыслей о будущем и вскоре уже была накоротке со многими галантными немецкими принцами и неимущими графами – и ни один из них, похоже, не замечал, что Изобель скоро предстоит расстаться со своими зубами. Кики продолжал усердно трудиться по четыре-пять часов в день, зрение в правом глазу постепенно восстанавливалось. На левый он ослеп полностью, как и предсказывал окулист. Из Парижа явился с кратким визитом Феликс Мошелес, они засиделись допоздна, попивая рейнское из тонких зеленых бокалов, куря сигары и болтая о бедняжке Кэрри, которая так и осталась в унылом Мехелене.
Кики упомянул, что начал писать о ней роман, вот только продолжить нет времени. Возможно, то был первый набросок «Трильби», который и поныне лежит в ниж нем ящике стола в одном из дюссельдорфских пан сионов…
Кэрри переменилась, объявил, качая головой, Феликс; увы, она, похоже, покатилась по наклонной плоскости, и все потому, что все-таки была влюблена в одного из них, а в кого именно, они так и не выяснили. Кики предложил сделать серию рисунков, на которых они с Феликсом по очереди помогали бы Кэрри одолеть тернистый жизненный путь, и даже начал набрасывать один-другой, к величайшему восхищению Феликса, однако, как и набросок романа о Трильби, замысел этот остался незавершенным. Слишком уж много было в Дюссельдорфе всяких развлечений, чтобы долго вспоминать несчастную Кэрри. Изобель крепко сдружилась с двумя мисс Льюис, и вскоре стало ясно, что старшей мисс Льюис в высшей степени по душе общество Кики.
Кики всегда проявлял податливость, если рядом возникало миловидное личико, а мисс Льюис, безусловно, не могла пожаловаться на свою внешность. Кроме того, она была чрезвычайно высока ростом – и это тоже вызывало его восхищение. А потому, когда завершался рабочий день и кисти с красками откладывали в сторону, он отправлялся с матерью и сестрой к Льюисам, и там они понемногу пели, слегка закусывали, и, вероятно, они со старшей мисс Льюис обменивались многозначительными взглядами.
Не очень это было красиво со стороны Кики: он вовсе не был в нее влюблен; она же, бедняжка, воспринимала его жесты всерьез и со дня на день ждала предложения руки и сердца. Рождество выдалось бурным – самое счастливое его Рождество с тех неповторимых дней в Латинском квартале, и вечером к ним присоединились немецкие принцы, они любезничали с Изобель, что чрезвычайно льстило самолюбию Эллен: дети ее пользуются таким успехом, так всем нравятся; с другой стороны, крайне неприятно, что немецкие принцы не имеют никаких серьезных, матримониальных намерений.
Настал новый, 1860 год – и Кики, возвращаясь домой после пения дуэтом со старшей мисс Льюис, вдруг понял, что в марте ему исполнится двадцать шесть лет, а он ничуть не ближе к славе и богатству, чем был шесть лет назад.
Что готовит ему будущее? Не пора ли наконец обдумать его серьезно? Окулист сказал ему, что при аккуратном обращении правый глаз будет служить ему и дальше, а в Графрате ему больше, по сути, ничем не могут помочь. Соответственно, нужно уезжать из Дюссельдорфа, пока он не превратился в такого же бездельника и повесу, как все эти немецкие принцы, и начинать зарабатывать себе на жизнь карандашом. Он постепенно смирялся с мыслью, что никогда не станет живописцем. В масляной живописи он совсем не продвигался вперед. Он решил обсудить все это с Томом Армстронгом, который как раз вернулся из Алжира и решил провести несколько месяцев в Дюссельдорфе, прежде чем перебраться в Лондон.
– Дружище, – сказал Кики, – суть дела заключается в том, что первый этюд, который я в свое время написал в Антверпене, – просто шедевр Тициана по сравнению с нынешней моей масляной мазней. Я проучусь еще три месяца, и si ça ne va pas – fini alors![87] Неужели дело в том, что одним глазом я не вижу цветовых эффектов – вот как не могу сбить пробку с бутылки, – или что?
– Занялся бы ты иллюстрациями, – предложил его приятель. – Я убежден, что это и есть твое истинное призвание. Вот, посмотри.
Он перебросил Кики экземпляр альманаха «Панч».
– Посмотрим, как ты оценишь работы Чарльза Кина[88] и Джона Лича[89], – продолжал Армстронг. – Оба они – штатные сотрудники «Панча». Тебе не кажется, что это больше по твоей части, чем нынешние твои потуги?
Кики не ответил. Он зачарованно переворачивал страницы.
– Почему никто раньше не сказал мне о существовании этого издания? – спросил он наконец, не скрывая сильнейшего волнения. – Я в жизни не видел ничего лучше! Черт, ну эти ребята и рисовальщики! Чего бы я, Том, старина, не отдал, чтобы стать таким, как они!
– А я убежден, что станешь, если прекратишь биться над живописью и займешься только этим. Поехали весной вместе в Лондон, Кики, и попытаем там счастья. Здесь, в Дюссельдорфе, ты только попусту тратишь время.
– Но мне никогда не добиться того, чего добились эти Кин и Лич, – вздохнул Кики. – У меня совсем нет чувства юмора. Я выставлю себя дураком – и только. Денди, снобы, подхалимы – все те, на кого они рисуют в «Панче» карикатуры, – я ведь ничего про них не знаю. Я, как тебе известно, никогда не вращался в таких кругах.
– Ничего, будешь вращаться, когда попадешь в Лондон. Я, старина, представлю тебя кому надо. Через три месяца будешь в высшем свете как дома!
– А ты можешь меня себе там представить? Единственное общество, в котором я хоть как-то разбираюсь, – это богемные-континентальные-артистические-космополитические франкмасоны, а до них английской публике нет никакого дела. Мы с тобой, да и все наши здешние знакомые, любим по вечерам курить и пить кофе в кафе и до бесконечности рассуждать о своем ремесле, но кому, кроме нас самих, это интересно? Кроме того, Том, я неисправимый лентяй, и всегда таким был. Мне нравится тут прохлаждаться в окружении прелестных молодых англичанок, таких же бездельниц, как и я сам; все это так чертовски просто и не требует никаких усилий.
– Брось, Кики, я тебе не верю. Ты ведь в душе рвешься отсюда, чтобы заняться наконец настоящим делом. Собери волю в кулак, старина, и выберись наконец из этой трясины.
– А стоит ли? Я и сам не знаю. Мне никак ни на что не решиться. Пошли в кафе, приятели ждут.
Он встал, улыбнулся, потянулся и рассмеялся, увидев, как у Тома вытянулось лицо, – зря глупый старина Том так хорошо о нем думает, – а потом они под руку отправились в кофейню на углу: Кики распевал «Лучшее пойло на свете» и гадал, почему на душе сегодня не так светло, как обычно.
В кафе уже дожидалось человек шесть-семь приятелей, которые при появлении Кики приветственно завопили. Там были Бест, его новый, очень близкий друг; Банкрофт[90], сын американца-историка, – юноша, который очень нравился Кики, – такой умный, рассудительный, серьезный, так непохожий на него самого. Они пели, болтали, смеялись, вели свирепые споры, обсуждая достоинства английских писателей Кингсли и Карлайла[91], но потом эта, более глубокомысленная часть вечера прервалась бурным вторжением рыжеволосого Швейцарца, с которым Кики делил мастерскую, – о появлении его свидетельствовал грохот переворачиваемых столов и стульев, звон разбитого стекла и верещание девушек, которых он целовал. Ему было на всех и на все плевать, он выбирал себе в жертву какого-нибудь почтенного, безобидного хлюпика, который пил пиво в уголочке, и перебрасывал его через плечо под радостный рев остальных посетителей.



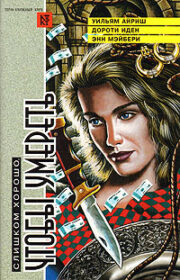
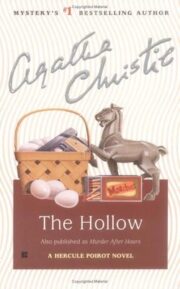
"Берега. Роман о семействе Дюморье" отзывы
Отзывы читателей о книге "Берега. Роман о семействе Дюморье", автор: Дафна дю Морье. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Берега. Роман о семействе Дюморье" друзьям в соцсетях.