– Сказано честно и прямо, мой скромный монашек! – услыхал вдруг Аллен чей-то густой бас и почувствовал на своем плече тяжелую руку.
Быстро оглянувшись, он, к немалому изумлению, узнал Джона Гордля.
– Клянусь вечным спасением моей души, аббатство Болье потеряло двух лучших людей. Теперь там остался единственный человек, похожий на живого, – аббат, хотя я его недолюбливаю, а он меня, но кровь у него горячая. А прочие – кто они?
В порыве негодования пьяный Джон продолжал:
– В течение двух месяцев моего пребывания в монастыре я слишком хорошо узнал их серую жизнь и никогда не соглашусь вернуться к ним. Ты себе и представить не можешь, как я рад, что наконец-то мне удалось вырваться от них, хотя и не совсем почетным образом.
– Но зачем же тогда вы пошли туда? – недоуменно спросил Аллен.
– Мой милый мальчик, все дело в том, что я был глуп, как баран, и не мог отличить зерно от плевел; к тому же меня отвергла особа по имени Маржери Олспи, в которую я влюбился до умопомрачения; вот, господа, почему ваш покорный слуга очутился за этими проклятыми стенами.
В это время хозяйка поставила поднос, уставленный стаканами и кубками, наполненными медом и искрившимся вином, а миловидная девушка, очевидно прислужница, внесла за ней блюдо, распространявшее по всей комнате соблазнительный запах.
Захмелевшие гости с восторгом приветствовали появление хозяйки и ее помощницы и тотчас принялись за поглощение жаркого, не забывая запивать его напитками. Аллен со своей порцией скромно уселся в отдалении, откуда мог свободно наблюдать за шумной компанией, обычной для всех кабачков Англии, но совершенно незнакомой ему.
Помещение, в котором очутился Аллен, напоминало, скорее, конюшню. Седла, уздечки, оружие и другой хлам, висящие на вбитых в стену кривых гвоздях, были освещены несколькими факелами, воткнутыми в стены.
Чад, исходивший от камина, делал обстановку еще более фантастической для Аллена, но более всего его интересовали посетители. Трое или четверо из них, судя по одежде, были лесниками; на самом почетном месте, у камина, сидел певец, о чем можно было судить по арфе, которой он, по-видимому, очень гордился, несмотря на то что на ней недоставало нескольких струн; дальше сидели несколько крестьян в скромных одеждах, с пьяными физиономиями и всклокоченными волосами, кое-кто был одет в невообразимые костюмы, даже не позволявшие судить о роде занятий, разве лишь о том, что эти джентльмены были большими поклонниками Бахуса; наконец, наш старый знакомый, Джон Гордль, игравший не последнюю роль среди кутил, дополнял столь поразившую юношу яркую картину беззастенчивой обывательской жизни. Между прочим взгляд Аллена невольно упал на толстого человека, растянувшегося в углу комнаты на полу и громко храпевшего.
Бойкая хозяйка подметила его недоумение и объяснила Аллену, что это красильщик Уот, безобразно расписавший деревянный щит, предназначенный для вывески.
– Можете себе представить, молодой сэр, – говорила хозяйка с неподдельным отчаянием, – я поверила этому мошеннику и пьянице, а он испортил мне вывеску. Быть может, вы знаете, добрый господин, что это за птица такая – кречет?
– Кречет, – ответил Аллен, – это довольно крупная птица, похожая на орла. Я отлично помню, как мне показывал ее наш ученый брат Варфоломей. Но эта мазня, – он указал на деревянную доску, стоявшую в углу комнаты, на которой было намалевано тощее чудовище с пестрым телом, – скорее, похожа на какого-нибудь дракона, умершего от пятнистого тифа.
– О боже мой, Пресвятая Владычица, что подумали бы благородные джентльмены, проезжающие по этой дороге, если бы увидели подобную вывеску! А ведь иногда здесь проезжает сам его королевское величество. Пропала бы тогда моя гостиница! О, мошенник, пьяница, а я ему еще поверила, – причитала хозяйка, – как дура, угощала его на славу. Теперь же он храпит и никак его не добудишься!
– Не стоит предаваться такому отчаянию, добрая женщина, – сказал миролюбиво Аллен, – я попытаюсь исправить дело, дайте только краски и кисти.
Он быстро принялся за работу, а госпожа Элиза, видя, что он не требует ни вина, ни эля, сразу почувствовала симпатию к молодому монаху и начала рассказывать ему о посетителях трактира.
– Вот это, – говорила она, – лесники, доезжачие[14] королевской охоты, это певец Фойтиг Уилл, он много лет бродит по этим местам и хотя мало платит и много пьет, но всеми любим; грудинка на вашей тарелке станет куда аппетитнее, если вы услышите, как он поет «Подвиг Товии»[15]; впрочем, вам скоро предстоит в этом убедиться: он начнет петь, как только благородное вино разгорячит его кровь.
– А это кто? – в свою очередь полюбопытствовал Аллен, указывая на посетителя в меховом плаще, сидевшего неподалеку от певца.
– Это продавец пилюль и мазей, человек очень сведущий в насморках, дизентерии, нарывах и прочих болезнях, – ответила госпожа Элиза. – Как вы заметили, он носит под рубашкой изображение святого Луки, первого врачевателя, но избави бог меня и моих близких от необходимости прибегать к его помощи. Его сосед – зубодер; его сумка полна зубов, вырванных на последней Винчестерской ярмарке, откуда он идет; мне кажется, что в ней больше здоровых зубов, чем больных. Несмотря на то что это очень полезный и опытный человек – зрение его ослабло, но руки по-прежнему сильны, вот почему я не рискнула б дать ему вырвать зуб. Остальные же либо крестьяне, либо наемные работники.
– А кто этот юноша? – продолжал Аллен. – Должно быть, очень важная персона, раз он с таким высокомерием смотрит на окружающих.
– Как же вы неопытны, мой друг, сразу видно, что вы плохо знаете людей. Только люди невысокого происхождения могут так задирать нос, как этот школьник из Кембриджа. То ли дело благородные рыцари, они никогда не позволят себе обидеть человека каким-нибудь недостойным подозрением, как зачастую делают эти выскочки, у них всегда есть в запасе несколько добрых слов, их ласковая улыбка, обходительность, щедрость сразу располагают к себе. Немало их перебывало у меня за это время. Эти щиты, – хозяйка с гордостью указала на щиты, развешанные по стенам, – лучше всего доказывают, что эти благородные господа не брезговали моим скромным гостеприимством и не раз проводили ночь под моей крышей. Однако мне пора стелить постели. Да благословит тебя бог за твою доброту и поможет успешно завершить начатое.
С уходом хозяйки Аллен еще усерднее принялся работать кистью и невольно прислушивался к разговору у камина, тем более что дружная поначалу беседа стала принимать характер ссоры.
– Клянусь всеми святыми, теперь сэр Хамфри из Ашби будет пахать для меня свои земли! – кричал один из крестьян, потрясая кулаками и сверкая гневно глазами. – Мы несколько сот лет горбатились на него, заботились о его благосостоянии, а он вздумал теперь продавать нас, как последнюю скотину. Но час суда Божьего близок, таким беднякам, как мы, ничего не стоит в один прекрасный день пустить ему красного петуха. О, тогда мы посмотрим, что станется с этим великолепным замком и его благородным лордом!
– Точно сказано, дружище, – подхватил другой бродяга с пьяной физиономией, – ты будто сделан из стали, что высказываешься так смело! Другие боятся, хотя в глубине души чувствуют то же самое. Только ты забываешь в своем гневе, что, кроме знатных господ, опирающихся в своем бесправии на меч, у нас, бедняков, есть еще масса других врагов, в рясе, высасывающих под разными благовидными предлогами нашу кровь. Нам стоит бояться как кольчуги, так и тонзуры. Попробуй ударить одних, сейчас завопят другие, ударишь вторых – и первые берутся за шпагу. О, господи, когда эти дармоеды перестанут жить нашим трудом!
– Гм! Судя по тому, как ты проводишь время в «Пестром кречете», трудно придется тому, кто станет жить твоим трудом, – вмешался один из лесников.
– Это куда более честно, – ответил крестьянин, – чем красть оленей, вместо того чтобы их охранять.
– Глупое животное, если ты осмелишься еще раз разинуть свою пасть, то я заткну ее навеки этим ножом!
– Прошу вас, джентльмены, – вмешалась хозяйка, точно добросовестный констебль, исполняющий по привычке свой долг, – не делайте, ради бога, скандала, это позорит мой дом.
– Тысяча чертей! – прервал ее третий бродяга. – Клянусь святым Ансельмом, если уж дело пошло на то, мой кулак не уступит ножу лесника. Неужели нам придется гнуть спину не только перед господами, но еще и перед их холопами!
– Для меня нет другого господина, кроме короля, и я не позволю в моем присутствии дурно отзываться о нем!
– Ха-ха-ха! Ну и насмешил же! Хорош английский король, который ни слова не говорит по-английски. Как-то раз стою я, – начал бродяга, которого звали Дженкином, – у Франклинских ворот, вдруг подъезжает верхом король и кричит: «Ouvre»![16] По знаку руки я догадался, что надо открыть ворота, и почтительно стал дожидаться, пока он проедет. А он мне на это: «Merci!» – будто бы я ему ровня. Хорош английский король, про которого кричит этот дубина!
– Клянусь святым Гумбертом, если кто осмелится еще слово сказать против старого короля, то он будет иметь дело со мной, и это будет последнее слово в его жизни! – заревел как раненый зверь Джон Гордль. – Может, он и не говорит по-английски, но сражается как истый англичанин! Он, как настоящий рыцарь, дрался, пока вы, дармоеды, сидели дома и разводили клопов!
В наступившей тишине до слуха Аллена долетела беседа, происходившая в дальнем углу комнаты между лекарем, зубодером и певцом.


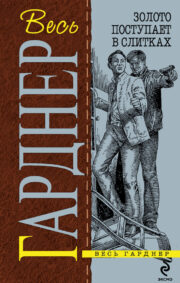

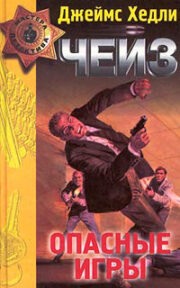

Эта книга предоставляет интересный взгляд на приключения и действия Белого Отряда. Она подарит вам много восхитительных моментов.
Эта книга предоставляет интересный взгляд на приключения и действия Белого Отряда. Я была подвластна ее драматическим и захватывающим сюжетом.
Класний детектив. 5 балів!
2. Артур Конан Дойл предоставляет нам захватывающую историю, полную действия и приключений. Это произведение действительно привлекает внимание.
2. Автор Артур Конан Дойл прекрасно передал противоречия и историю людей, которые принимают участие в Белом Отряде. Это произведение действительно заставляет задуматься.
Интригующий сюжет.