Оба монаха, никак не ожидавшие такого исхода, сжались и, словно улитки, совершенно ушли в себя. Между тем аббат перевел свой гневный взор на главного виновника.
– Что скажешь, брат Джон, в ответ на эти тяжкие обвинения?
– Очень немного, преподобный отец, очень немного, – ответил брат Джон с грубым акцентом, что заставило братьев прислушаться, а аббата побагроветь от гнева и изо всех сил хватить кулаком по дубовой ручке кресла, в котором сидел.
– Что я слышу? – воскликнул он. – Разве можно говорить на таком языке в стенах нашего прославленного монастыря? Хотя, – аббат тяжело вздохнул, – благочестие и страсть к познанию всегда шли рука об руку, если потеряно одно – нет смысла искать другое.
– Насчет этого не знаю. Могу лишь сказать, что такая речь приятна для моего рта, на этом языке говорили мои родители. С вашего позволения, или я буду говорить так, или совсем замолчу.
Аббат слабо кивнул.
– Что касается пива, – продолжал спокойно брат Джон. – Вернувшись с работы, я был таким разгоряченным и, кроме того, мне так хотелось пить, что я совершенно случайно осушил всю кружку. Немудрено, что я отказался исполнить приказание наставника насчет отрубей и бобов, ведь для человека моего сложения нельзя долго оставаться без пищи. Не стану отрицать, что держал за шиворот брата Амброза, но ведь, как вы сами видите, он остался жив и невредим. Что касается девицы, то я действительно перенес ее через ручей: на ней были чулки и тонкие башмаки, а у меня деревянные сандалии, которые не портятся от воды. Было бы бесчестно для меня как мужчины и как монаха, если бы я не протянул ей руку помощи.
Во время своей речи брат Джон продолжал глупо улыбаться и насмешливо глядеть на присутствующих.
– Довольно, – произнес аббат. – Он во всем сознался. Остается только выбрать наказание, соответствующее его дурному поведению.
С этими словами он встал; два длинных ряда монахов последовали его примеру, боязливо поглядывая на разгневанного прелата.
– Джон из Гордля! – прогремел аббат. – В течение двух месяцев испытания ты показал себя вероотступником, недостойным носить белую рясу, этот символ непорочной души. Поэтому я срываю с тебя монашескую одежду и навсегда лишаю защиты и благословения нашего покровителя святого Бенедикта. Твое имя будет вычеркнуто из списков нашего ордена, и отныне тебе запрещается даже близко подходить к владениям Болье.
Никто не ожидал такого сурового приговора: изгнание из тихой гавани монастыря в пустыню жизни, полную бурь и невзгод, было для монахов равносильно смерти, и потому немудрено, что по келье пронесся ропот ужаса и удивления. Но обвиняемый, очевидно, был совсем другого мнения, так как улыбка еще шире расплылась по его лицу и глаза блеснули радостным огнем, что привело настоятеля в негодование.
– Это только духовное наказание для тебя! – воскликнул гневно прелат. – При твоей натуре нужно воздействовать на более грубые чувства, что особенно легко исполнить после того, как ты лишился покровительства нашей церкви. Братья Франциск, Наум, Иосиф, хватайте его, вяжите ему руки! Гоните его отсюда плетьми!
Но едва упомянутые три брата приблизились к Джону, чтобы исполнить приказание аббата, как насмешливая улыбка моментально исчезла с лица разжалованного послушника. Он превратился в разъяренного быка, загнанного на бойню, и, дико озираясь кругом, метал искры из своих больших черных глаз. Схватив тяжелый дубовый аналой, он сделал несколько шагов к выходу и остановился в оборонительной позе.
– Клянусь черной дорогой ада, – заревел Джон, – если хоть одна каналья прикоснется к моей одежде, я раздавлю ее, как ореховую скорлупу!
В его громовом голосе и мощной фигуре с копной рыжих волос было нечто первобытное. Три брата моментально отпрянули в сторону, остальные монахи тоже как-то сжались и согнулись, словно деревья под напором бушующей стихии. Один только аббат, сверкая глазами, бросился вперед, но, к счастью, его удержали брат Иероним и брат-судья.
– В него вселился дьявол! – закричали они. – Брат Амброз, брат Иаков, бегите, зовите Хью с мельницы, Уота-лесника и Рауля с его стрелами и арбалетом. Скажите им, что наша жизнь в опасности. Бегите, бегите, ради Пресвятой Девы Марии!
Но Джон Гордль был такой же хороший стратег, как и сильный муж. Подняв высоко над головой свое грозное оружие, он бросил его в брата Амброза, и в тот момент, когда деревянный аналой и бедный монах покатились на пол, отлученный одним прыжком очутился за дверью. Вечно сонному привратнику брату Афанасию почудилось мимолетное видение чьих-то промелькнувших ног и развевающейся одежды. Но, когда он наконец протер глаза, Джон Гордль уже быстро бежал по Линдхерстской дороге, так что в воздухе только сверкали подошвы его деревянных сандалий.
II. Аллен Эдриксон вступает в свет
Никогда еще спокойная атмосфера, царившая в стенах старого цистерцианского монастыря, не нарушалась так грубо; никогда дерзкий бунтовщик так легко не отделывался от должного возмездия. Но аббат Бергхерш был человеком слишком крепкой воли, чтобы хоть на минуту пасть духом и показаться сконфуженным перед лицом братьев, которые легко могли последовать дурному примеру и впасть в греховное заблуждение. Произнеся строгую, назидательную речь, аббат благословил братьев на возвращение к мирным занятиям и отправился к себе в келью. Долго он молился, стоя коленопреклоненным перед аналоем, как вдруг послышался осторожный стук в дверь.
Аббат не любил, чтобы прерывали его молитву, но строго нахмуренное чело его моментально прояснилось, когда на пороге появился худощавый юноша с золотистыми волосами, немного выше среднего роста, с выразительными чертами лица и статной, хорошо сложенной фигурой. Его ясные, задумчивые серые глаза и нежное ласковое выражение лица ясно свидетельствовали, что он воспитывался и развивался вдали от радостей и печалей суетного света. Однако слегка выдающийся подбородок и резко очерченный рот рассеивали всякое подозрение об изнеженности. Возможно, он и принадлежал к людям восторженным и чувствительным, полным сострадания ко всем, но проницательный наблюдатель и знаток человеческой природы сразу заметил бы, что под этой нежной оболочкой монастырского питомца скрываются врожденная мощь и твердость характера. Юноша был в светлом платье, хотя камзол, плащ и панталоны были сшиты из темного монастырского сукна. Через плечо надета была кожаная дорожная сумка, а в руке он держал большой окованный железом посох и шляпу, к тулье которой спереди была прикреплена оловянная бляха с изображением Божьей Матери.
– Ты уже собрался, сын мой? – спросил аббат. – Сегодня поистине день изгнания и расставания. Какое странное стечение обстоятельств! На протяжении одного дня нам пришлось вырвать гнуснейший корень зла и теперь расстаться с человеком, который поистине носит на себе отпечаток Божьего благословения.
– Вы слишком добры ко мне, отец, – ответил смиренно юноша. – Однако, будь моя воля, я никогда бы не расстался с этим святым домом.
– Разлука неизбежна, – ответил аббат, – я дал слово отцу твоему Эдрику, что по достижении тобой совершеннолетнего возраста ты пойдешь в мир, чтобы убедиться на собственном опыте, чего он стоит. Присядь, Аллен, ведь тебе предстоит длинный путь.
– Двадцать лет тому назад, – продолжал аббат, – твой отец, сокман[8] Минстеда, умирая, завещал аббатству три гайда[9] плодородной земли в ста милях от Мильвуда и оставил на нашем попечении своего младенца сына. Матери твоей уже не было в живых, а старший брат твой, теперешний владелец Минстеда, уже и тогда отличался невозможно грубым и скверным характером. Вот причина, по которой твой отец отдал нам тебя на воспитание, но с тем условием, чтобы ты не оставался в монастыре, а вернулся в мир.
– Зачем же вы гоните меня отсюда, коль скоро я достиг некоторых духовных степеней? – возразил с грустью в голосе молодой человек.
– Ты не давал монашеского обета и потому свободно можешь идти в мир. Ты был привратником?
– Да, отец.
– Молитвы об изгнании нечистой силы читал?
– Да, отец.
– Писарем был?
– Да, отец мой.
– Псалтырь читал?
– Да, отец мой.
– Но обетов послушания и целомудрия ты не давал?
– Нет.
– Значит, ты можешь вести мирскую жизнь. Но, прежде чем отпустить тебя отсюда, я хочу знать, какие ты приобрел у нас познания. Мне известно, что ты недурно играешь на цистре[10] и ребеке[11]. Наш хор понесет в твоем лице большую утрату. Но ты, я слышал, также режешь по дереву?
Бледное лицо юноши покрылось румянцем.
– Преподобный отец, брат Варфоломей научил меня резать по дереву и по слоновой кости, а также обращаться с серебром и бронзой. У брата Франциска я научился рисовать на бумаге, стекле и металле, почерпнул сведения, как составлять хорошие, прочные краски, которые не стирались бы и не темнели от времени. Он передал мне свое искусство по части дамасских работ, украшения алтарей и переплетения книг. Кроме того, я умею настраивать инструменты.
– Неплохой список! – заметил аббат, с гордостью глядя на юношу. – Тебе мог бы позавидовать любой клирик из Кембриджа или Оксфорда. Но как насчет книг? Боюсь, что в этом отношении ты недалеко ушел…
– Да, отец, по части книг я слаб, хотя и читал многих святых отцов.
– Но почерпнул ли ты какие-нибудь сведения о внешнем мире, в котором тебе придется жить? – перебил его с беспокойством аббат. – Из этого окна ты можешь видеть лес и трубы Баклерсхарда, устье Экса и сияющее море. Но скажи мне, Аллен, куда бы прибыл человек, севший на корабль, распустивший паруса и поплывший от этого места?
Юноша задумался и стал чертить концом палки план на полу.
– Точно. А что было бы, продолжи он путь на восток?


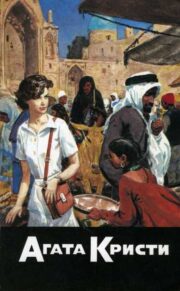



Эта книга предоставляет интересный взгляд на приключения и действия Белого Отряда. Она подарит вам много восхитительных моментов.
Эта книга предоставляет интересный взгляд на приключения и действия Белого Отряда. Я была подвластна ее драматическим и захватывающим сюжетом.
Класний детектив. 5 балів!
2. Артур Конан Дойл предоставляет нам захватывающую историю, полную действия и приключений. Это произведение действительно привлекает внимание.
2. Автор Артур Конан Дойл прекрасно передал противоречия и историю людей, которые принимают участие в Белом Отряде. Это произведение действительно заставляет задуматься.
Интригующий сюжет.