Аллен не замедлил юркнуть под этот естественный гостеприимный кров, но тотчас же остановился в нерешительности, заметив уже приютившихся там двух молодых людей, в которых по одежде и манерам нетрудно было сразу признать студентов, наводнивших в то время все известные и малоизвестные уголки Европы. Один был длинный, сухой и меланхоличный, а другой – жирный и лоснящийся, с самодовольным лицом, напомнивший Аллену упитанного теленка. Юноша появился в то время, когда они совершали свой скудный завтрак и о чем-то спорили до слез.
– Идите, идите сюда, добрый юноша! – закричал тощий студент, увидев Аллена. – Vultus ingenui puer![39] Не бойтесь моего кузена, как сказал Гораций, у него сено на рогах, на самом же деле он и мухи не обидит.
– Заткни свой рот! – воскликнул другой. – Если уж дело дошло до Горация, вот что я скажу: Loquaces si sapiat! Каково? А по-английски это значит: человек разумный должен опасаться болтунов. Хотя если бы все люди были разумными, ты стал бы печальным исключением.
– Увы, Дайкон, боюсь, что твоя логика так же слаба, как и философия или богословие. Ей-богу, трудно хуже защитить свое утверждение, чем это сделал ты. Допустим, propter argumentum[40], что я болтун, тогда правильный вывод следующий: все должны избегать меня. А ты не избегаешь и поедаешь вместе со мной селедку в лесу, ergo[41], человек ты неразумный, а я как раз об этом и насвистываю в длинные твои уши.
– Ах так! – отозвался его товарищ. – Язык у тебя работает не хуже мельничного жернова! Присаживайся, друг, и угощайся селедкой, – обратился он к Аллену, – но сначала заметь себе, что с этим связаны особые условия.
– А я-то надеялся, – сказал Аллен, поддерживая их шутливый тон, – что с этим связаны кусок хлеба и глоток молока.
– Только послушай его! – воскликнул толстый коротышка. – Вот ведь как, Дайкон! Остроумие, парень, заразная штука. Я распространяю его вокруг себя, создаю ауру. Говорю тебе, кто подойдет ко мне на расстояние семнадцати шагов, тот заразится. Взгляни хотя бы на самого себя. Скучнее человека я не встречал, однако за неделю и ты изрек три неплохих шутки, да еще одну – в тот день, когда мы покинули Фордингбридж, и от которой я и сам бы не отказался.
– Довольно, пустомеля! – остановил его другой и обратился к Аллену: – Молоко ты, друг, получишь и хлеб тоже, но ты должен рассудить нас беспристрастно.
– Прошу тебя, добрый юноша, – обратился к Аллену толстяк, – скажи нам, ученый ли ты клирик, и если да, то где ты учился – в Оксфорде или Париже?
– Кое-какой запас знаний у меня есть, – ответил Аллен, принимаясь за селедку, – но ни в одном из этих мест я не был. Меня воспитали монахи-цистерцианцы в аббатстве Болье.
– Фу! – воскликнули студенты в один голос. – Разве это воспитание?
– Non cuivis contingit adire Corinthum,[42] – заметил Аллен.
– А знаешь, брат Стефан, кое-какая ученость у него есть, – заметил меланхолик более бодро. – И он может оказаться самым справедливым судьей, ибо ему незачем поддерживать кого-либо из нас. Теперь слушай, друг, и пусть твои уши работают столь же усердно, как и нижняя челюсть. Judex damnatur[43] – тебе знакомо это древнее изречение. Я защищаю добрую славу ученого Дунса Скотта против глупых софизмов и убогих, слабых рассуждений Уильяма Оккама.
– А я, – громко заявил другой, – защищаю здравый смысл и выдающуюся ученость высокомудрого Уильяма против слабоумных фантазий грязного шотландца Скотта, который утопил крупицы смысла в такой груде слов, что этот смысл уподобился капле гасконского в бочке воды. Сам Соломон не смог бы объяснить, что этот мошенник имеет в виду.
– Конечно, брат Стефан, такой мудрости маловато! – воскликнул другой. – Это все равно как если бы крот стал бунтовать против утренней звезды оттого, что не видит ее. Но наш спор, друг, идет о природе той тончайшей субстанции, которую мы называем мыслью. Ибо я вместе со Скоттом утверждаю, что мысль подобна пару, или дыму, или многим другим субстанциям, по отношению к которым наших глаз недостаточно. Видишь ли, то, что производит вещь, само должно быть вещью, и если человеческая мысль способна создать написанную книгу, то сама эта мысль должна быть чем-то материальным, подобно книге. Понятно ли, о чем я хочу сказать? Или мне выразиться яснее?
– А я считаю, – крикнул другой, – вместе с моим мудрейшим наставником doctor preclarus et excellentissimus[44], что все вещи являются лишь мыслями; ибо когда исчезнет мысль, скажи, прошу тебя, куда денутся вещи? Вот вокруг нас деревья, и я вижу их оттого, что мыслю о них. Но если я, например, в обмороке, или сплю, или пьян, то моя мысль исчезает, и деревья исчезают вслед за ней. Ну, ведь так?
Аллен сидел между ними и жевал свой хлеб, а они спорили, покраснев, сильно размахивая руками. Никогда не слыхал он столь схоластической[45] тарабарщины, таких искусных аргументов, силлогизмов и взаимных опровержений. Ответы разбивались о вопросы, как мечи о щит. Древние философы, основатели церкви, современные мыслители, Священное Писание, арабы – всем этим один стрелял в другого, а дождь продолжал идти, и зелень остролистника стала темной и блестящей от сырости. Наконец толстяк, видимо, начал сдаваться, ибо тихонько принялся за еду, а его противник, гордый как петух, избежавший топора, прокукарекал в последний раз набором цитат и заключений. Однако его взгляд вдруг упал на пищу, и он издал вопль возмущения.
– Ты дважды негодяй! – заорал он. – Ты слопал мою селедку, а у меня с утра ни крошки во рту не было.
– Вот это и было моим последним аргументом, – ответил сочувственно толстяк, – венчающим доводом, или peroratio[46], как говорят ораторы. Ибо если все мысли суть вещи, то тебе достаточно представить пару селедок, а потом кувшин молока, чтобы их запить.
– Достойное рассуждение, – воскликнул другой, – и у меня только один ответ на него.
Тут он наклонился и влепил толстяку звонкую пощечину.
– Да, не обижайся, – сказал он, – ведь вещи – это лишь мысли, и пощечина – только мысль, нельзя брать ее в расчет.
Однако последний довод отнюдь не показался убедительным последователю Оккама, он поднял с земли большую палку и огрел ею реалиста по макушке. К счастью, палка оказалась гнилой и разлетелась в щепки; однако Аллен предпочел оставить товарищей вдвоем – пусть сами решают свои споры. Солнце снова вышло из-за туч, и юноша тронулся в путь.
Вскоре лес начал редеть и сменился желтеющими нивами и богатыми пастбищами. По обе стороны дороги стали появляться деревенские избушки с соломенными крышами; на порогах некоторых этих убогих жилищ сидели усталые хозяева; во дворах краснощекие босоногие дети возились в песке. Приближался закат, и солнце своими лучами золотило всю окрестность: и зеленые луга, и стада белоснежных овец, и коров, бродивших по колено в высокой сочной траве и лениво двигавших челюстями. Аллен почувствовал внезапно накатившую усталость и потому очень обрадовался, увидев высокую остроконечную башню Кристчёрчского аббатства, а еще больше – когда узрел за поворотом дороги своих товарищей, сидевших верхом на поваленном дереве друг к другу лицом и игравших в кости. Подойдя ближе, он, к великому своему удивлению, заметил, что у лохматого Джона за спиной красуется лук Эльварда, на боку висит меч Эльварда, а на пеньке неподалеку – его стальной шлем.
– Mort de ma vie![47] – воскликнул лучник. – Черт знает как мне сегодня не везет! Счастье покинуло меня с тех пор, как я уехал из Наварры. У меня один и три. En avant, друг!
– Четыре и три, – ответил Джон, считая на своих огромных пальцах. – Ну-ка, стрелок, давай сюда свой шлем. Теперь остается куртка.
– Mon Dieu, – ворчал Эльвард. – Кажется, придется явиться в Кристчёрч в чем мать родила.
Как раз в это время он поднял глаза и увидел приближающегося Аллена.
– Клянусь небом, это наш cher petit. Не верю собственным глазам! – воскликнул Эльвард и бросился обнимать оторопевшего юношу. Джон тоже страшно обрадовался, но, будучи флегматичным и медлительным саксом, стоял в стороне, ухмыляясь и переминаясь с ноги на ногу, в только что выигранном шлеме, к слову сказать, надетом им задом наперед.
– Ты опять с нами, мой милый мальчик? – кричал вне себя от радости лучник, сжимая Аллена в объятиях. – Теперь уж ты не уйдешь от нас!
– Да я и не думаю уходить! – ответил Аллен, тронутый до глубины души такой сердечной встречей.
– Хорошо сказано! – решился наконец открыть рот Большой Джон. – Пойдем воевать втроем, и черт с ним, с этим аббатом из Болье! Но отчего у тебя такие грязные башмаки и чулки? Ты, должно быть, искупался в луже?
– Да, немного, – стушевавшись, ответил Аллен.
Потом, отправившись со своими товарищами в дальнейший путь, он рассказал им подробно обо всех приключениях, постигших его за этот сравнительно небольшой промежуток времени. Эльвард и Джон, шагая по обе стороны от молодого человека, внимательно слушали его. Когда же юноша замолчал, Эльвард, ноздри которого вдруг раздулись, как у породистой лошади, резко повернулся и быстро зашагал назад.
– Куда вы? – воскликнул испуганно Аллен, догнав Эльварда и схватив его за рукав.
– Оставь меня, mon petit. Я иду в Минстед.
– Зачем?
– Чтобы свернуть шею этому барану. Разве это можно допустить? Тащить слабую девушку против ее воли, травить собаками родного брата! Я должен идти!
– Нет-нет! – кричал Аллен, улыбаясь столь благородному порыву. – Ведь он никому не причинил вреда! Остыньте, приятель!
Эльвард мало-помалу стал поддаваться на уговоры и наконец повернул назад к Кристчёрчу, хотя все время бурчал себе что-то под нос и потряхивал своей гривой.
– Отчего в вашей внешности произошла такая перемена? – спросил, добродушно улыбаясь, Аллен. – Где доспехи, украшавшие славного воина? Где меч, лук и шлем? Отчего Джон шествует с таким важным видом?
– Сэм Эльвард выучил меня на свою голову этой игре, – ответил Джон.
– И способный же, черт возьми, оказался ученик, – проворчал Эльвард. – Можно подумать, что я попал в руки разбойников на большой дороге. Но, право, ты, как порядочный человек, должен вернуть мне эти вещи, чтобы не дискредитировать мою миссию, а я даю тебе честное слово, что заплачу сполна за них.





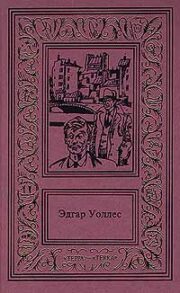
Эта книга предоставляет интересный взгляд на приключения и действия Белого Отряда. Она подарит вам много восхитительных моментов.
Эта книга предоставляет интересный взгляд на приключения и действия Белого Отряда. Я была подвластна ее драматическим и захватывающим сюжетом.
Класний детектив. 5 балів!
2. Артур Конан Дойл предоставляет нам захватывающую историю, полную действия и приключений. Это произведение действительно привлекает внимание.
2. Автор Артур Конан Дойл прекрасно передал противоречия и историю людей, которые принимают участие в Белом Отряде. Это произведение действительно заставляет задуматься.
Интригующий сюжет.