На мгновение я оказалась в сомнении, не отдубасит ли меня искусная рука великого хирурга. Никакие искажения в произношении не смогут передать запутанный германо-английский жаргон, на котором он изливал свою ярость на мою поникшую голову. Достаточно сказать, что он заявил, что присутствие отвратительной личности брата Ньюджента жизненно необходимо — до тех пор, пока Оскар отсутствует — для успешного проведения курса лечения такого чувствительного и легко возбудимого пациента, которого мы пере-дали на его попечение. Я напрасно уверяла его в том, что Ньюджент покинул Димчорч поправить все дела путем воз-вращения его брата обратно. Гроссе решительно отклонил мою попытку повлиять на него своими досужими рассуждениями на эту тему. Он сказал (и поклялся), что мое вмешательство создало серьезное препятствие на его пути, и ни-что, кроме его собственного нежного отношения к Луцилле не помешало ему «развернуть экипажи обратно» и оставить нас впредь на произвол судьбы.
Когда мы подошли к воротам дома священника, он не-много успокоился. Когда мы шли по саду, он напомнил мне, чтобы я обязательно присутствовала при снятии повязки.
— Имейте в виду, — сказал он. — Сами увидите, правильно ли это сказать, что у нее такие прекрасные белые руки на фоне этой уродливой повязки. Потом вы непременно расскажите мне, осмелились вы сказать ей простыми английскими словами, что синее лицо — это человек.
Мы нашли Луциллу в гостиной. Гроссе кратко рассказал о том, что ничего особенного что должно задержать его в Лондоне не оказалось, поэтому он перенес дату своего визита.
— Ты хочешь чем-нибудь заняться, моя любовь, в этот ненастный дождливый день. Покажи папе Гроссе, что ты можешь делать своими глазами теперь, когда ты обрела их вновь.
При этих словах он снял повязку и, взяв ее за подбородок, осмотрел ее глаза — сначала без лупы, а потом с ее помощью.
— Я поправляюсь? — спросила она волнуясь.
— Очень успешно! Вы несетесь на скором поезде к выздоровлению (как говорят мои хорошие друзья в Америке), но сейчас сами воспользуйтесь своими глазами. Подарите первый любящий взгляд Гроссе. Затем смотрите, смотрите, смотрите!
Не могло быть сомнений, каким тоном он с ней разговаривал. Он был не просто удовлетворен ее глазами, он испытывал триумф.
— Так, — проворчал он, поворачиваясь ко мне. — А почему мистер Себрайт не здесь, чтобы посмотреть на это?
Я нетерпеливо подошла к Луцилле. Глаза ее оставались еще не совсем ясными. Я также заметила, что зрачки двигались туда-сюда непрестанно, иногда она даже дико озиралась. Но какая же прекрасная перемена в ней! Новая жизнь красавицы, которым уже озарило ее это новое чувство. Ее улыбка, всегда очаровательная, теперь отражалась на ее губах и распространяла ее нежное очарование на все ее лицо. Было невозможно ее не поцеловать. Я подошла, чтобы поздравить ее, обнять ее. Гроссе встал и остановил меня.
— Нет, — сказал он. Ступайте туда, где вы были — в другой конец комнаты и давайте посмотрим, сможет ли она подойти к вам.
Как все обычные люди, немного знающие об этом пред-мете, я даже не имела представления, каким беспомощно-жалким образом восстановленное зрение старается о себе заявить человеку, который всю жизнь был слеп. В таких случаях усилия глаз, которые учатся в первый раз видеть, подобны усилиям малыша, который учится ходить. Если бы не странная манера восприятия Гроссе, сцена, свидетелем которой я теперь должна была стать, была бы до последней степени болезненной. Моя бедная Луцилла, вместо того что-бы наполнить меня радостью, как я ожидала, заставила мое сердце разорваться и заставила меня разрыдаться.
— Сейчас! — сказал Гроссе, кладя одну руку на плечо Луцилле, а другой указывая на меня. — Вон она стоит. Можешь ли ты подойти к ней?
— Конечно, могу!
— Бьюсь об заклад, что ты не сможешь! Десять тысяч фунтов против шести пенсов. Договорились. Теперь попробуй!
Она ответила слабым пренебрежительным жестом и сделала три быстрых шага вперед. Озадаченная и напуганная, она вдруг остановилась на третьем шаге, не пройдя и половины расстояния, отделявшего ее от меня.
— Я видела мадам Пратолунго здесь, — обратилась она жалобно к Гроссе, указывая на место, на котором остановилась. — Я вижу ее теперь и не знаю, где она. Она так близко, мне кажется, что касается моих глаз, а между тем (она сделала еще шаг и обняла руками пустое пространство) я никак не могу приблизиться к ней настолько, чтобы поймать ее. О, что это значит?
— Это значит — заплатите мне мои шесть пенсов, я выиграл пари.
Его смех обидел Луциллу. Она упрямо подняла голову, насупила брови и сказала:
— Погодите немного, вы не выиграете так легко, я еще дойду до нее.
И она немедленно подошла ко мне так же свободно, как я подошла бы к ней.
— Еще пари, — воскликнул Гроссе, стоя сзади нее и обращаясь ко мне. — Двадцать тысяч фунтов в этот раз против четырех пенсов. Она закрыла глаза, чтобы дойти до вас.
Он был прав. Луцилла закрыла глаза, чтобы дойти до меня. С закрытыми глазами она могла рассчитывать расстояние безошибочно, с открытыми — не имела о нем никакого понятия. Уличенная нами, она села, бедная, и вздохнула с отчаянием.
— Стоило ли для этого подвергаться операции? — сказала она мне.
Гроссе перешел на нашу сторону комнаты.
— Все в свое время, — утешил он. — Потерпите, и ваши неопытные глаза научатся. So! Я начну учить их сейчас. Вы составили себе какое-нибудь понятие о разных цветах? Когда вы были слепы, думали вы, какой цвет был вашим любимым цветом, если б вы видели? Думали? Какой же? Скажите мне.
— Во-первых, белый, — отвечала она. — Потом пунцовый.
Гроссе подумал.
— Белый, это я понимаю, — сказал он. — Белый — любимый цвет молодых девушек. Но почему пунцовый? Разве вы могли видеть пунцовое, когда были слепы?
— Почти, — отвечала она, — когда было достаточно светло, я чувствовала что-то пред глазами, когда мне показывали пунцовое.
— При катарактах они всегда видят пунцовое, — пробормотал Гроссе. — Для этого должна быть какая-нибудь причина, и я должен найти ее.
Он опять обратился к Луцилле.
— А цвет, который вам противнее всех, какой?
— Черный.
Гроссе одобрительно кивнул головой.
— Так я и думал, — сказал он. — Они все терпеть не могут черное. Для этого должна быть также какая-нибудь причина, и я должен найти ее.
Высказав это намерение, он подошел к письменному столу и взял лист почтовой бумаги и круглую перочистку из пунцового сукна. Затем он оглядел комнату и взял черную шляпу, в которой приехал из Лондона. Все три вещи Гроссе положил в ряд перед Луциллой. Прежде чем он успел задать ей вопрос, она указала на шляпу с жестом отвращения.
— Возьмите это, — попросила она. — Я этого не люблю.
Гроссе остановил меня, прежде чем я успела сказать что-нибудь.
— Подождите немного, — шепнул он мне на ухо. — Это вовсе не так удивительно, как вам кажется. Прозревшие люди всегда ненавидят первое время все темное.
Он обратился к Луцилле.
— Укажите мне, — сказал он, — ваш любимый цвет между этими вещами.
Она пропустила шляпу с презрением, взглянула на перочистку и отвернулась, взглянула на лист бумаги и отвернулась, задумалась и закрыла глаза.
— Нет! — воскликнул Гроссе. — Я этого не позволю. Как вы смеете ослеплять себя в моем присутствии? Как! Я возвратил вам зрение, а вы закрываете глаза. Откройте их, или я вас поставлю в угол, как непослушного ребенка. Ваш любимый цвет? Говорите!
Она открыла глаза (весьма неохотно) и взглянула опять на перочистку и на бумагу.
— Я не вижу здесь ничего столь яркого, как мои любимые цвета, — сказала она.
Гроссе поднял лист бумаги и задал безжалостный вопрос:
— Как! Разве белое белее этого?
— В пятьдесят тысяч раз белее!
— Gut! Так знайте же — этот лист бумаги белый. (Он вынул носовой платок из кармана ее передника.) Этот платок тоже белый. Белейшие из белых — оба! Первый урок, душа моя. Вот в моих руках ваш любимый цвет.
— Этот! — воскликнула Луцилла, глядя с неподдельным отчаянием на бумагу и платок, которые он положил на стол. Она поглядела на перочистку и на шляпу и подняла глаза на меня. Гроссе, готовившийся к новому опыту, предоставил мне отвечать. Результат в обоих случаях был тот же самый, как с бумагой и с платком. Пунцовое было вполовину не так ярко, черное было во сто раз не так черно, как она воображала, когда была слепа. Что касается последнего цвета, черного, она была довольна. Он произвел на нее неприятное впечатление (как и лицо бедного Оскара), хотя она не знала, что это ее нелюбимый цвет. Луцилла сделала попытку, бедное дитя, похвастаться пред своим безжалостным доктором-учителем.
— Я не знала, что эта шляпа черная, — рассуждала она, — тем не менее я не могу смотреть на нее без отвращения.
Говоря это, Она хотела бросить шляпу на кресло, стоявшее возле нее, а вместо этого швырнула ее через спинку кресла к стене по крайней мере на шесть футов дальше, чем хотела.
— Я ни на что не способна, — воскликнула Луцилла, и лицо ее вспыхнуло от досады. — Не пускайте ко мне Оскара. Мне страшно подумать, что я покажусь ему смешной. Он придет сюда, — прибавила она, обращаясь жалобно ко мне. — Найдите какой-нибудь предлог не пускать его ко мне подольше.
Я обещала исполнить ее просьбу тем охотнее, что получила неожиданно возможность примирить ее хоть отчасти (пока она будет учиться видеть) с отсутствием Оскара.
Луцилла обратилась к Гроссе.
— Продолжайте, — сказала она с нетерпением. — Научите меня быть не такой идиоткой или ослепите меня опять. Мои глаза ни на что не годны! Слышите вы? — воскликнула она зло и, схватив Гроссе за его широкие плечи, начала трясти его изо всех сил. — Мои глаза ни на что не годны!

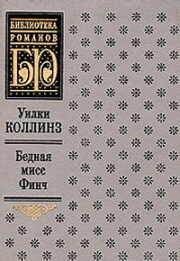

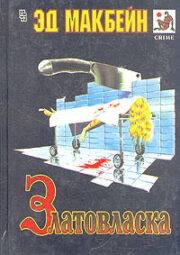


"Бедная мисс Финч" отзывы
Отзывы читателей о книге "Бедная мисс Финч", автор: Уильям Уилки Коллинз. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Бедная мисс Финч" друзьям в соцсетях.