Обрадованная своими открытиями, Виктория на следующее утро легко заставила себя проявить по отношению к Катерине бездну дружелюбия. Как это мило со стороны Катерины, сказала она, что та предложила отвести ее помыть голову! У нее волосы просто в ужасном состоянии. (Это была истинная правда: из Вавилона она возвратилась не брюнеткой, а до рыжины запудренной липкой красной пылью.)
— Да, вид действительно безобразный, — подтвердила Катерина, злорадно оглядывая ее голову. — Ты что, вчера во время пыльной бури гулять ходила?
— Я наняла автомобиль и поехала смотреть Вавилон, — ответила Виктория. — Было очень интересно, но на обратном пути поднялась эта пыльная буря, и я чуть не задохнулась и не ослепла.
— Вавилон — это интересно, — сказала Катерина. — Но надо было поехать со знающим человеком, чтобы все объяснял. А мыть голову я тебя отведу к знакомой армянке сегодня вечером. Она тебе вымоет с шампунем, самым лучшим.
— Даже не представляю, как тебе удается всегда ходить с такой красивой прической! — умильно произнесла Виктория, с показным восхищением оглядывая массивную конструкцию из сальных локонов, возведенную на голове у Катерины.
Та, всегда такая хмурая, довольно заулыбалась, и Виктория подумала о том, как прав был Эдвард, рекомендуя лесть.
Вечером Виктория и Катерина вышли из «Масличной ветви» закадычными подругами. Катерина долго вела ее по узким, кривым улочкам и переулкам и наконец постучала в неприметную дверь, на которой не было ни надписи, ни таблички. Однако за дверью их встретила деловитая молодая женщина, медленно и правильно говорившая по-английски, она усадила Викторию перед безукоризненно чистой раковиной, оснащенной блестящими кранами и заставленной по краю разнообразными флаконами и бутылками. Катерина ушла, и Виктория вверила свою густую встрепанную шевелюру ловким пальцам мисс Анкумьян. Скоро на голове у нее образовалась пышная шапка мягкой мыльной пены.
— А теперь будьте любезны…
Виктория наклонилась над раковиной. Вода потекла по волосам, с журчанием уходя в отверстие слива.
Вдруг в нос ей ударил сладковатый тошнотворный больничный запах. Кусок мокрой, вонючей ткани плотно закрыл ей нос и рот. Виктория стала отбиваться, извиваясь, вертя головой, но железная рука твердо прижимала лоскут к ее лицу. Она почувствовала, что задыхается, в ушах поднялся оглушительный звон…
А потом — темнота, глубокая и беспросветная.
Глава 18
Когда сознание к ней вернулось, у нее было такое чувство, что прошло очень много времени. В голове плавали какие-то обрывки воспоминаний — тряская езда в машине — громкие ссорящиеся арабские голоса — слепящий луч света в глаза — мучительная дурнота — а потом смутно припомнилось, как она лежит на кровати и кто-то поднял ее руку — болезненный укол — и опять ей что-то мерещится — и обступает тьма — и не проходит, растет беспокойство…
Но теперь она наконец сознает себя… Она — Виктория Джонс… С Викторией Джонс что-то случилось, давным-давно, с тех пор прошли месяцы, может быть, даже годы… хотя возможно, только дни.
Вавилон — солнце — пыль — волосы — Катерина.
Ну конечно, Катерина! Катерина улыбалась и хитро смотрела из-под сальных локонов. Это она отвела Викторию мыть волосы, и потом… Что случилось потом? Кошмарный запах, и теперь тошнит, чуть припомнить. Хлороформ[106], конечно. Ее усыпили и перевезли. Но куда?
Виктория осторожно попробовала приподняться и сесть на жесткой кровати — голова болит и кружится, наваливается сонливость, смертельно хочется спать… Тот укол, это они ее держали под наркозом… она и сейчас еще одурманена.
Но, по крайней мере, ее не убили (интересно почему?). Ну и слава Богу. И самое лучшее, что она может сейчас сделать, — это заснуть. Что она незамедлительно и сделала.
В следующий раз Виктория очнулась уже с более ясной головой. Был день, и при свете она смогла получше рассмотреть помещение, в котором находилась.
Это была тесная комнатушка, но с очень высоким потолком. Стены выкрашены гнетущей голубовато-серой краской. Пол — земляной, плотно убитый. Всей мебели только кровать, на которой она лежала, укрытая грязной ветошью, да хлипкий стол, и на нем щербатый эмалированный таз, а под ним оцинкованное ведро. Единственное окошко забрано снаружи деревянной резной решеткой. Виктория встала с кровати и на нетвердых ногах, пересиливая дурноту, подошла к окошку. Сквозь деревянную резьбу был отлично виден сад и пальмы на заднем плане. Сад, по восточным меркам, очень даже неплохой, хотя, конечно, в пригородах Лондона его бы не оценили — одни ярко-оранжевые ноготки и несколько пыльных эвкалиптов да худосочных тамарисков[107].
По саду гонял мяч ребенок с синей татуировкой на лице и с бесчисленными браслетами на руках и ногах — бегал и напевал что-то тоненько в нос, похоже на отдаленный звук шотландской волынки.
После окна Виктория приступила к осмотру двери. Дверь была большая, массивная. Виктория подошла и на всякий случай толкнула. Заперто, конечно. Девушка вернулась к кровати и села.
Где она находится? Пев Багдаде, это уж точно. И что ей теперь делать?
Последний вопрос, как она тут же сообразила, был неуместен. Правильнее спросить, что сделают с ней? Испытывая неприятный холод внизу живота, Виктория вспомнила совет мистера Дэйкина говорить все, что ей известно. Ну, а если уже все узнали от нее под наркозом?
Впрочем, возвратилась Виктория к единственной мысли, внушавшей бодрость, она ведь жива. И надо только как-то продержаться в живых, пока Эдвард ее не найдет. Что, интересно, сделает Эдвард, когда обнаружит ее исчезновение? Пойдет к мистеру Дэйкину? Или будет действовать в одиночку? Нагонит страху на Катерину и заставит во всем признаться? А вообще-то заподозрит ли он Катерину? Чем больше старалась Виктория представить себе Эдварда в образе своего деятельного спасителя, тем абстрактнее и бледнее он становился. Хватит ли у него сообразительности, вот в чем вопрос. Он, конечно, прелесть. И душка. По как у него с умом-то вообще? Ведь сейчас она очутилась в такой ситуации, когда от его ума, бесспорно, зависит очень многое.
У мистера Дэйкина, у того с умом все в порядке. Зато неясно, будет ли он так уж стараться. Может, просто возьмет да и вычеркнет ее из своего мысленного гроссбуха, проведет черту по всем страницам и аккуратно припишет: RIP[108]. В конце концов, кто она для него? Просто одна из многих. Мало ли сколько их, желающих попытать удачи — не вышло, жаль, но что ж поделаешь. Нет, рассчитывать на то, что мистер Дэйкин затеет розыск, не приходится. Он же ее предостерегал.
И доктор Ратбоун тоже предостерегал. (Или грозил?) А когда она не поддалась на угрозы, они тут же, без задержки, были приведены в исполнение…
Но я ведь пока еще жива, опять напомнила себе Виктория, предпочитавшая видеть во всем перво-наперво светлые стороны.
За дверью раздались шаги, заскрежетал ключ в ржавом замке. Взвизгнули петли, дверь распахнулась. На пороге показался незнакомый араб. Он держал старый жестяной поднос, на котором что-то стояло.
Араб был, похоже, в отличном расположении духа, он широко ухмыльнулся, произнес нечто непонятное по-арабски, а затем поставил поднос, ткнул пальцем в свой разинутый рот и удалился, заперев за собой дверь.
Виктория с интересом приблизилась к подносу. На нем была глубокая миска риса, что-то похожее на скатанные капустные листы и большой ломоть арабского хлеба. Был также кувшин с водой и стакан.
Для начала Виктория выпила полный стакан воды, а затем набросилась на рис, хлеб и капустные листы, в которые оказалось завернуто сдобренное пряностями рубленое мясо. К тому времени, когда на подносе больше ничего не осталось, она чувствовала себя уже значительно лучше.
Теперь она сделала попытку пояснее все осмыслить. Ее усыпили хлороформом и похитили. Как давно это произошло? Трудно сказать. Ей смутно помнились какие-то сны и пробуждения, так что, возможно, прошло несколько дней. Из Багдада ее увезли, но куда? Опять же, откуда ей знать? Не владея арабским, она даже спросить не может. Так что ни места, ни даты, ни имени этих людей не разузнать.
Потянулись часы беспросветной скуки.
Вечером ее тюремщик опять принес поднос с едой. Вместе с ним на этот раз появились две женщины в выцветших черных одеждах и с закрытыми лицами. В комнату они не вошли, а остались стоять за порогом. У одной на руках был ребенок. Они разглядывали ее из-за двери и хихикали, посверкивая глазами сквозь тонкие покрывала. По-видимому, им было очень интересно и забавно видеть европейскую узницу.
Виктория попробовала заговорить с ними по-английски и по-французски, но ответом ей было одно хихиканье. Странно как-то, подумалось ей, женщины, а не могут понять друг друга. Она медленно и с трудом произнесла единственную арабскую фразу, которую знала:
— Эль хамду лиллах[109].
И была сразу же вознаграждена за старания восторженной арабской скороговоркой. Женщины энергично закивали. Виктория шагнула было к ним, но араб-слуга, или кто он там был, поспешно отступил к двери и перегородил ей дорогу. Он жестом отослал женщин прочь и вышел сам, а дверь снова запер. Но перед тем как скрыться, он несколько раз повторил одно слово:
— Букра-букра…
Это слово Виктория слышала и раньше. Оно означало — «завтра».
Она снова села на кровать, стала думать. Завтра? Завтра должен кто-то приехать или должно произойти какое-то событие. Завтра ее заключению, возможно, придет конец. А может быть, заодно и ей самой? Нет, куда ни кинь, не нравятся ей эти разговоры про завтра. Чует ее сердце, что лучше бы ей завтра здесь не быть.
Но есть ли возможность отсюда выбраться? Она в первый раз всерьез задумалась на эту тему. Подошла к двери, осмотрела. Нет, тут и думать нечего. Замок не из тех, которые можно открыть шпилькой, — не говоря уж о том, что она вообще вряд ли способна открывать замки шпилькой.

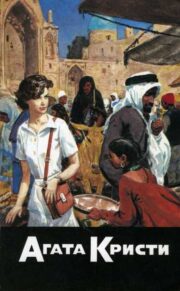

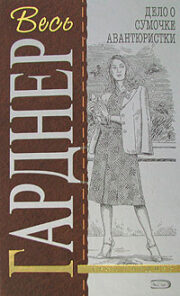


"Багдадская встреча. Миссис Макгинти с жизнью рассталась. После похорон" отзывы
Отзывы читателей о книге "Багдадская встреча. Миссис Макгинти с жизнью рассталась. После похорон", автор: Агата Кристи. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Багдадская встреча. Миссис Макгинти с жизнью рассталась. После похорон" друзьям в соцсетях.