Мне часто вспоминается грамота, висевшая на стене у меня в детской, — кажется, я получила ее в награду за победу в соревнованиях по метанию мячиков, которые проводились для детей во время одной из регат. На ней было написано: «Не можешь водить паровоз — стань кочегаром». По-моему, лучшего жизненного девиза не сыскать. Смею думать, мне удавалось придерживаться его. Я попробовала себя в разных областях, но никогда не упорствовала в том, что плохо получалось и к чему у меня не было природной одаренности. Румер Годден в одной из своих книг приводит два перечня: того, что ей нравится, и того, что не нравится. Мне это показалось занятным, и я тут же составила свои списки. Теперь, наверное, можно продолжить работу, перечислив то, чего я не умею и что умею делать. Разумеется, первый перечень окажется гораздо длиннее.
Я никогда ни во что не умела хорошо играть; из меня не получился, и уже никогда не получится, интересный собеседник; я настолько легко внушаема, что бросаюсь вперед прежде, чем успеваю сообразить, что же именно мне предлагают сделать. Я не умею рисовать, не способна к живописи, не могу ни лепить, ни высекать; не сдвинусь с места, пока меня не растормошат; плохо объясняю то, что хочу сказать, — мне легче писать. Я умею быть твердой в принципиальных вопросах, но не в повседневной жизни. Даже если я знаю, что завтра вторник, стоит кому-нибудь раза четыре повторить, что завтра среда, на пятый я соглашусь и начну действовать соответственно.
Что я умею делать? Ну, писать. Могла бы стать приличной музыкантшей, но не профессиональной — я хорошо аккомпанирую певцам. В трудной ситуации способна импровизировать — это умение пригодилось мне больше всего. То, что я умею делать при помощи шпилек для волос и английских булавок в неожиданных домашних обстоятельствах, всех удивляет. Это я придумала слепить из хлебного мякиша липкий шарик, насадить его на шпильку, шпильку сургучом прикрепить к концу шеста для раздвигания штор и с помощью этого приспособления достать мамин зубной протез, упавший на крышу оранжереи! Я успешно усыпила с помощью хлороформа ежа, запутавшегося в теннисной сетке, и таким образом спасла его от удушья. Скажу без ложной скромности, в доме от меня кое-какая польза есть. И так далее, и тому подобное. А теперь о том, что я люблю и чего не люблю.
Я не люблю находиться в толпе, где тебя сжимают со всех сторон, не люблю, когда громко разговаривают, шумят, не люблю долгих разговоров, вечеринок, особенно коктейлей, сигаретного дыма и вообще курения, каких бы то ни было крепких напитков — разве что в составе кулинарных рецептов, не люблю мармелада, устриц, теплой еды, пасмурного неба, птичьих лапок, вернее, прикосновения птицы. И наконец, больше всего я ненавижу вкус и запах горячего молока.
Люблю: солнце, яблоки, почти любую музыку, поезда, числовые головоломки и вообще все, что связано с числами; люблю ездить к морю, плавать и купаться; тишину, спать, мечтать, есть, аромат кофе, ландыши, большинство собак и ходить в театр.
Я могла бы составить перечень и получше, более впечатляющий и многозначительный. Но опять-таки это была бы не я, а мне кажется, я должна примириться с тем, что я такая, какая есть.
Начиная новую жизнь, мне пришлось критически пересмотреть круг своих друзей. Испытание, через которое пришлось пройти, стало своего рода пробным камнем в отношениях с ними. Мы с Карло учредили между собой два ордена: орден Крыс и орден Верных Собак. О ком-нибудь мы могли сказать: «О, да, этот достоин ордена Верных Собак первой степени». Или: «Этот заслуживает ордена Крыс третьей степени». Крыс оказалось не так много, но среди них были совершенно неожиданные: иные люди, которые считались моими настоящими друзьями, как выяснилось, не желали теперь иметь ничего общего с человеком, привлекшим к себе внимание в связи с сомнительными, как им казалось, обстоятельствами. Подобное открытие не могло не ранить меня и не заставить замкнуться в себе. С другой стороны, обнаружилось, что у меня много истинно преданных друзей, демонстрировавших мне большую любовь и сердечность, чем прежде.
Пожалуй, преданность восхищает меня больше всех других достоинств. Преданность и отвага — два самых прекрасных качества. Как физическая, так и нравственная смелость вызывает у меня восторг. Это одна из главных жизненных добродетелей. Если вы решились нести бремя жизни, вы должны нести его отважно. Это ваш долг.
Много кавалеров ордена Верных Собак обнаружилось среди моих друзей-мужчин. В жизни каждой женщины есть свои преданные Доббинсы. Вот и меня искренне тронул один приятель, который примчался ко мне, словно верный Доббинс. Он посылал огромные букеты цветов, писал письма и в конце концов сделал предложение. Вдовец, на несколько лет старше меня, он признался, что, увидев впервые, счел меня слишком юной, но теперь уверен, что сможет дать мне семейный покой и сделать счастливой. Я была тронута, но вовсе не хотела выходить замуж, поскольку никогда не испытывала к нему нежных чувств. Он был для меня добрым другом — не более. Конечно, сознание, что кто-то тебя любит, приятно, но глупо выскакивать замуж лишь потому, что хочется, чтоб тебя утешали и чтоб была жилетка, в которую можно поплакать.
Во всяком случае, я не желала, чтобы меня утешали, и боялась нового замужества. Я поняла — думаю, все женщины рано или поздно это понимают, — что причинить боль по-настоящему может только муж. Потому что нет никого ближе; ни от кого ваше повседневное душевное состояние не зависит так, как от него. И я решила: больше никогда и никому не сдамся на милость.
Приятель-летчик в Багдаде, делясь собственными семейными неурядицами, как-то сказал одну вещь, насторожившую меня:
— Тебе кажется, что ты устроил свою жизнь и готов продолжать ее вечно, но все кончается одним и тем же, выбор приходится делать лишь между двумя возможностями: завести либо одну любовницу, либо — несколько.
Иногда у меня бывало неприятное ощущение, что он прав, но обе эти возможности я предпочитала теперь замужеству. Если у вас несколько любовников, ни один из них не сможет причинить вам существенной боли. Если один, это возможно, но все же не так мучительно, как если бы это был муж. Для меня с мужьями было покончено. В тот момент для меня было покончено с мужчинами вообще, но, как утверждал все тот же приятель-летчик, это временное состояние.
Что меня поразило, так это сколько мужчин стали ухаживать за мной, как только я оказалась в несколько двусмысленном положении дамы, разъехавшейся с мужем и официально с ним разводящейся.
— А чего бы вы хотели? — удивился моей непонятливости один молодой человек. — Вы ведь живете без мужа и, как я догадываюсь, разводитесь с ним.
Сначала я не могла решить, приятно мне такое внимание или раздражает. В целом оно было, видимо, приятно. Женщина никогда не чувствует себя достаточно старой, чтобы признать, что вряд ли кто уже покусится на ее честь. С другой стороны, такое внимание утомляло и порой вызывало осложнения. Одним из таких «осложнений» стал итальянец, которого я сама накликала на свою голову по незнанию итальянских обычаев. Как-то утром он спросил, не беспокоил ли меня ночью грохот от погрузки угля в трюм (дело было на пароходе), и я ответила, что нет, поскольку моя каюта расположена по правому борту, обращенному от причала.
— А, — подхватил он, — ваша каюта, наверное, тридцать третья?
— Нет, — ответила я, — у моей каюты четный номер — шестьдесят восемь.
С моей точки зрения, разговор был вполне невинным, но я не знала, что по итальянской традиции, спрашивая номер каюты, мужчина спрашивает и разрешения навестить вас в ней. Больше не было сказано ни слова, но вскоре после полуночи мой итальянец явился. Последовала очень забавная сцена. Я не говорю по-итальянски, он с трудом объясняется по-английски, поэтому мы сердитым шепотом выясняли отношения по-французски: я выражала свое возмущение, он — свое, но по другому поводу. Ругались мы приблизительно так:
— Как вы смеете ломиться в мою каюту?!
— Но вы же меня пригласили!
— Ничего подобного, я вас не звала!
— Нет, звали! Вы сказали мне, что номер вашей каюты 68.
— Но вы меня спросили об этом.
— Конечно, спросил. Спросил, потому что хотел прийти к вам. И вы разрешили мне это.
— Да ничего подобного!
Порой беседа накалялась до такой степени, что мне приходилось усмирять себя и его. Я не сомневалась, что весьма чопорный посольский врач и его жена, занимавшие соседнюю каюту, составили обо мне весьма неблагоприятное впечатление. Я сердито требовала, чтобы итальянец ушел, он желал остаться во что бы то ни стало. В какой-то момент его возмущение превзошло мое собственное, и я стала извиняться перед ним за то, что не поняла его: я ведь не знала, что подобный вопрос содержит в себе и предложение. В конце концов мне удалось от него избавиться, но я была травмирована очевидным фактом, что не являюсь многоопытной женщиной, за которую он меня принял. Мне даже пришлось сказать ему — и именно это, кажется, возымело действие, — что я англичанка и, следовательно, холодна по природе. Этим объяснением он, видимо, удовлетворился, честь — его честь — была спасена. Жена посольского врача одарила меня на следующее утро ледяным взглядом.
Только спустя много времени я узнала, что Розалинда с самого начала оценивала всех моих поклонников с сугубо практической точки зрения.
— Я, конечно, понимала, что когда-нибудь ты снова выйдешь замуж, и, разумеется, немного беспокоилась — кто это будет, — объяснила она.
Макс вернулся, погостив во Франции у матери, и сообщил, что приглашен работать в Британский музей. Он выразил надежду, что, приезжая в Лондон, я буду видеться с ним. Однако в ближайшее время я собиралась осесть в Эшфилде. Тем не менее случилось так, что мои издатели, «Коллинз», решили устроить большой прием в «Савое», на котором очень хотели бы видеть меня, чтобы познакомить с американскими издателями и еще кое с кем. На этот день у меня было назначено еще несколько встреч, поэтому я выехала накануне ночным поездом и пригласила Макса в свой «конюшенный» домик позавтракать.


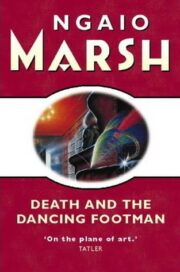
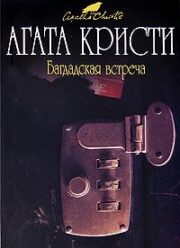

Эта книга Агаты Кристи была для меня открытием. Я был поражен тем, как автор смог передать все сложности и прелести жизни в двух мирах. Она показывает нам, как мы можем преодолеть препятствия и достичь своих целей. Эта книга помогла мне понять, что неважно, какие препятствия вас окружают, вам всегда можно достичь своих целей, если вы готовы постараться. Я очень рекомендую эту книгу всем, кто ищет вдохновения и мотивации.