Очень живо представляю себе одну учительницу — не помню, как ее звали. Маленькая, щуплая, с выступающим волевым подбородком. Однажды, совершенно неожиданно, посреди урока арифметики она произнесла речь о жизни и религии.
— Вы все, — сказала она, — каждая из вас, пройдете через тяжелые испытания. Если у вас не хватит смелости противостоять отчаянию, вы никогда не станете настоящими христианками, не узнаете, что такое жизнь во Христе. Чтобы стать христианами, вы должны смело встретить и принять жизнь, как встретил и прожил свою Христос; вы должны радоваться тому, чему радовался он; быть такими же счастливыми, каким был он на свадьбе в Кане Галилейской, познать мир и счастье, состоящее в единении с Господом и его волей. Но вы должны также изведать, подобно ему, что значит остаться одному в Гефсиманском саду, почувствовать, что все ваши друзья оставили вас, все, кого вы любили и кому верили, отвернулись от вас, и сам Господь Бог покинул вас. И тогда сохраняйте веру в то, что это еще не конец. Если вы любите, вы будете страдать, а если вы не любите, то никогда не узнаете, что означает жизнь во Христе.
После чего она с энтузиазмом и обычным напором обратилась к проблемам сложных процентов, но странно, что эти несколько слов, которые она произнесла, запали мне в душу сильнее, чем самые пространные проповеди, которые мне доводилось слышать; они возвращались ко мне годы спустя и приносили надежду во времена самого глубокого отчаяния. Активная личность, она была превосходным педагогом; я бы хотела учиться у нее и дальше.
Иногда я спрашиваю себя, что было бы со мной, если бы я продолжила свое образование. Думаю, я бы хорошо успевала и, наверное, сильно увлеклась бы математикой — предметом, всегда завораживавшим меня. Моя жизнь сложилась бы совершенно иначе. Я бы стала третье— или четвероразрядным математиком и спокойно и счастливо дожила бы до самой смерти. Скорее всего, я не написала бы никаких книг. Математики и музыки мне хватило бы с лихвой. Они поглощали бы все мое внимание, и мир воображения захлопнулся бы передо мной.
Однако по зрелом размышлении прихожу к выводу, что человек становится тем, кем ему суждело стать. Можно отдаваться фантазиям наподобие: «Если бы случилось то-то, и то-то, и то-то, то было бы так-то и так-то», или: «Если бы я вышла замуж за Как-его-там, моя жизнь сложилась бы совсем по-другому». Но так или иначе, вы всегда окажетесь на том пути, который предопределен вашим назначением, вашим жизненным призванием. Можно осуществить свое предназначение на все сто, можно отнестись к нему спустя рукава, но это ваше предназначение, и пока вы следуете ему, вам будут ведомы гармония существования и душевный покой.
Скорее всего, я проучилась у мисс Гайер не больше полутора лет; после этого мамой завладела новая идея. Как всегда, совершенно внезапно она объявила, что мы едем в Париж, а Эшфилд она на зиму сдаст. Может быть, для начала я попробую заниматься в том же пансионе, что и моя сестра; посмотрим, что из этого получится.
Дальше все пошло по плану; мама всегда воплощала в жизнь свои намерения. Она твердо знала, чего хочет, и заставляла всех вокруг подчиняться своей воле. Она сдала дом за очень хорошую сумму; мы начали паковать чемоданы и сундуки (не думаю, чтобы этих монстров с выпуклыми крышками было столько же, сколько при нашей поездке на юг Франции, но все равно предостаточно), и вот уже мы живем в Париже, в отеле «Иена», на авеню Иена.
Мама запаслась множеством рекомендательных писем и адресами различных закрытых пансионов и школ, учителей и советчиков. Она моментально выяснила ситуацию. Узнала, что пансион Мэдж изменился и за последние годы пришел в упадок, сама мадемуазель Т. ушла оттуда или вот-вот уйдет; мама сказала, что мы можем попробовать, а там будет видно. Такое отношение к школе вряд ли пришлось бы по вкусу кому-нибудь теперь, но мама считала возможным «пробовать» школы точно так же, как новые рестораны. Заглянув внутрь, вы никак не можете вынести суждение, какова еда; нужно попробовать сначала, что это такое, и если вам не нравится, то чем скорее вы унесете оттуда ноги, тем лучше. Разумеется, в те времена не существовало возни со школьными аттестатами, уровнями О, А и серьезными планами на будущее.
Я начала у мадемуазель Т. и проучилась там около двух месяцев, до конца семестра. Мне было пятнадцать лет. Моя сестра отличилась тотчас по поступлении в пансион; поскольку одна девочка сказала, что ей слабо выпрыгнуть в окно, Мэдж немедленно выпрыгнула и приземлилась точно в середине чайного стола, вокруг которого чинно сидели мадемуазель Т. и ее достопочтенные родители.
— Какие сорванцы эти английские девушки! — воскликнула крайне недовольная мадемуазель Т. Девочки, подбившие сестру на подвиг, злорадствовали, но в то же время восхищались Мэдж.
В моих первых шагах не было ничего сенсационного. Такая тихая мышка. На третий день я отчаянно затосковала по дому. Неудивительно: за последние четыре-пять лет я так сильно привязалась к маме, никогда с ней не разлучаясь, что в первый раз, когда я действительно покинула дом, мне ее очень недоставало. Самое интересное, что я не понимала, что со мной происходит. Я просто не хотела есть. Каждый раз, когда я думала о маме, слезы наворачивались у меня на глаза и текли по щекам. Помню, глядя на блузку, которую сшила мама — очень плохо, но собственными руками, — я рыдала с удвоенной силой именно оттого, что блузка в самом деле была такая неудачная, плохо сидела, складки не ложились. Мне удавалось скрывать свое отчаяние от окружающих, и только по ночам я плакала в подушку. Когда мама приехала, чтобы взять меня на воскресенье, я встретила ее как обычно, но в отеле бросилась ей на шею, обливаясь слезами. Мне приятно сказать, что я все же не попросила ее забрать меня обратно, не опустилась до такой слабости. Кроме того, увидев маму, я почувствовала, что больше не буду мучиться, так как теперь поняла наконец, что со мной происходит.
Я перестала тосковать и с удовольствием проводила дни в пансионе мадемуазель Т., который начал мне нравиться. Вместе со мной учились француженки, много испанок, американок, с их забавной манерой выражаться, непринужденностью, беззаботностью. Кроме того, они напоминали мне мою подругу из Котре, Маргерит Престли.
Не скажу, чтобы мы были перегружены занятиями. Наверное, ничего особенно интересного мы не изучали. По истории проходили период Фронды, который я прекрасно знала по историческим романам; что касается географии, то я на всю жизнь запуталась во французских провинциях, так как помнила, как они назывались во времена Фронды, то есть совсем иначе, чем теперь. Мы выучили также названия месяцев во времена Французской революции. Ошибки, которые я делала во французских диктантах, приводили преподавательницу в такой ужас, что она отказывалась верить своим глазам:
— Vraiment, c'est impossible! — говорила она. — Vous, qui parlez si bien francais, vous avez fait vingt-cinq fautes en dictree, vingt-cinq!
Никто не сделал больше пяти ошибок. Я представляла собой известный феномен, но причины моего провала в орфографии, конечно же, объяснялись тем, что я выучилась бегло говорить исключительно на слух, решительно не подозревая о разнице в написании, например, одинаково звучащих retre и retait: я писала как Бог на душу положит, наугад — а вдруг попаду. В других предметах, истории Франции, литературе, сочинениях и так далее, я была первой в классе; но что касается грамматики и орфографии, то хуже меня, пожалуй, и не было никого. Это создавало некоторые трудности для моих бедных преподавателей — и до известной степени унижало меня, но, признаюсь, нисколько не трогало.
Музыке меня учила пожилая дама — мадам Легран. Она служила в пансионе уже много лет. Любимым методом преподавания мадам Легран была игра в четыре руки. Она стремилась к тому, чтобы ее ученики хорошо читали с листа. Я неплохо читала с листа, но играть в четыре руки с мадам Легран было все равно что находиться у кратера вулкана во время его извержения. Мы садились рядышком на табуретку; мадам Легран была, что называется, в теле, она занимала большую часть сиденья и оттесняла меня на самый краешек; играла она с большим напором, энергично двигая локтями, словно подбоченясь, — в результате несчастный партнер должен был крепко прижимать один локоть к телу.
Не без легкого лукавства я всегда умудрялась устроить так, чтобы играть вторую партию дуэта — басовую. Мадам Легран легко позволяла уговорить себя, потому что, играя главную партию, получала больше возможностей для самовыражения. Увлеченная музыкой, погруженная в сочинение, она нередко не замечала, что я сбилась в аккомпанементе. Рано или поздно я теряла такт, возвращалась назад, пыталась поймать мадам Легран, не понимая, в каком месте нахожусь, потом старалась взять аккорд, который подошел бы к тому, что играла мадам Легран. Естественно, во время игры мне не всегда удавались эти попытки. Внезапно, когда чудовищная какофония, производимая нашей игрой, доходила до ушей мадам Легран, она останавливалась, всплескивала руками и восклицала: «Mais qu'est-ce que vous jouez lra, petite? Que c'est horrible!»
Я не могла не согласиться с ней — действительно, это был ужас. Мы начинали сначала. Разумеется, если я играла другую, первую партию, а не аккомпанемент, моя несостоятельность обнаруживалась немедленно. Тем не менее в целом мы хорошо чувствовали друг друга. Во время игры мадам Легран все время пыхтела, сопела. Ее грудь вздымалась и опускалась, временами она издавала стоны, производя одновременно устрашающий и очаровывающий эффект. От нее также исходил довольно сильный запах, что было не так очаровательно.
В конце семестра должен был состояться концерт, и мне выбрали для исполнения две пьесы — третью часть Патетической сонаты Бетховена и Арагонскую серенаду или что-то в этом роде. К Арагонской серенаде я немедленно почувствовала глубокое отвращение. Мне было страшно трудно играть ее, сама не знаю почему: нет никаких сомнений, что она гораздо легче Бетховена. И если мои дела с бетховенской сонатой продвигались хорошо, Арагонская серенада решительно не выходила. Я просиживала над ней часами, но из-за этого нервничала еще больше. Ночью я просыпалась, мне снилось, что я играю и происходит все самое ужасное. Клавиши приклеиваются к пальцам, или вдруг оказывается, что я играю на органе, а не на фортепиано, или я опоздала, потому что концерт состоялся накануне… Когда вспоминаешь потом, это кажется таким глупым.




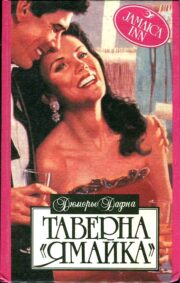

Эта книга Агаты Кристи была для меня открытием. Я был поражен тем, как автор смог передать все сложности и прелести жизни в двух мирах. Она показывает нам, как мы можем преодолеть препятствия и достичь своих целей. Эта книга помогла мне понять, что неважно, какие препятствия вас окружают, вам всегда можно достичь своих целей, если вы готовы постараться. Я очень рекомендую эту книгу всем, кто ищет вдохновения и мотивации.