После папиной смерти у мамы начались сердечные приступы. Они случались совершенно неожиданно, и прописанные доктором средства нисколько не помогали. Впервые я поняла, что значит беспокоиться о других, но, неопытная и маленькая, я сильно все преувеличивала. По ночам я просыпалась с отчаянно бьющимся сердцем, уверенная, что мама умерла. Двенадцать и тринадцать лет — самый подходящий возраст для таких волнений. Думаю, я понимала, что схожу с ума напрасно и что страхи мои необоснованны, но ничего не могла с собой поделать. Я вставала, кралась по коридору, опускалась на коленки около маминой двери и, прижав ухо к замочной скважине, не дыша пыталась уловить звуки ее дыхания. Очень часто мои опасения почти тотчас развеивались, так как из-под двери доносился оглушительный храп. Мама храпела довольно специфически: она начинала на изысканном пианиссимо, которое затем поднималось до оглушительного всхрапа, после которого мама обычно переворачивалась на другой бок и замолкала, по крайней мере, на три четверти часа. Услышав знакомые звуки и успокоившись, я уходила обратно к себе в комнату и засыпала; но если из-за двери ничего не было слышно, я оставалась на месте, во власти самых ужасных предчувствий. Было бы гораздо проще открыть дверь, войти и убедиться, что ничего страшного не произошло, но как-то так получалось, что я никогда этого не делала, а может быть, мама на ночь запирала дверь на ключ.
Я никогда не признавалась маме в этих ужасных приступах страха за нее, и, наверное, она никогда о них не подозревала. Каждый раз, когда она отправлялась в город, я безумно боялась, что ее могут задавить. Сейчас все это кажется таким глупым, лишним. Со временем, через год или два, мои страхи постепенно улеглись. Впоследствии я спала в папиной гардеробной, по соседству с маминой спальней, с приоткрытой дверью; если ночью она плохо себя чувствовала, я могла войти, поправить подушку, помочь лечь повыше и дать ей немного коньяка или нюхательную соль. Достаточно было один раз оказаться на месте вовремя, чтобы я насовсем избавилась от ужасных мук страха. Конечно, я всегда страдала от избытка воображения, сослужившего мне хорошую службу в моей профессии, в самом деле, фантазия — основа писательского ремесла, но в других случаях она может вызвать массу неприятных переживаний.
После смерти папы изменились и условия жизни. Светское времяпрепровождение практически прекратилось. Кроме старых друзей мама ни с кем не виделась. Мы едва сводили концы с концами и вынуждены были соблюдать строжайшую экономию. Только так мы могли сохранить Эшфилд. Мама не устраивала больше званых обедов и ужинов. Вместо трех слуг остались двое.
Мама попыталась объяснить Джейн, что мы теперь крайне стеснены в средствах и отныне ей придется довольствоваться двумя юными и неопытными помощницами; что Джейн, с ее великолепным кулинарным искусством, вправе претендовать на более высокое жалованье — она имеет для этого все основания. Мама подыскала для Джейн место, где она будет получать больше денег и работать с настоящей помощницей.
— Вы заслуживаете этого, — сказала мама.
Джейн бесстрастно выслушала мамину речь, не выказав никаких эмоций. Как всегда, она что-то ела. Продолжая жевать, она кивнула головой, а потом ответила:
— Прекрасно, мэм. Как скажете, вам виднее.
На следующее утро, однако, она появилась в маминой комнате:
— Я просто хотела сказать, мэм, кое-что. Я подумала и решила остаться у вас, мэм. Я поняла все, что вы мне сказали, и согласна получать меньше; но я жила здесь очень долго. Все равно брат настаивает, чтобы я приехала к нему потом, и я обещала вести его дом, когда он уйдет с работы: через четыре или пять лет. А до тех пор я остаюсь здесь.
— О, это так великодушно с вашей стороны, — расчувствовалась мама.
Джейн, пуще всего боявшаяся проявления всяких чувств, сказала:
— Так будет лучше, — и величественно покинула комнату.
Однако в этом соглашении существовал изъян. Привыкнув за многие годы готовить определенным образом, Джейн решительно не могла переменить свои привычки. Если она приготовляла роти, то из гигантского куска мяса. На стол подавались громадные пироги, колоссальных размеров торты и пудинги, достойные аппетита Гаргантюа. Мама говорила:
— Джейн, помните, что нас только двое.
Или:
— Пожалуйста, на четверых.
Но Джейн не воспринимала этих увещеваний.
Ощутимый урон хозяйству наносило щедрое гостеприимство Джейн. Каждый божий день к ней заявлялись семь или восемь друзей пить чай с пирожными, сдобными булочками, лепешками, печеньем, фруктовыми тортами. В конце концов, отчаявшись из-за того, что книга домашних расходов все распухает и распухает, мама деликатно намекнула, что, может быть, поскольку теперь все изменилось, Джейн договорится со своими друзьями, что они будут приходить к ней не чаще чем раз в неделю. Так что теперь Джейн расточала свое гостеприимство только по пятницам.
Наши трапезы тоже отличались от прежних застолий с тремя-четырьмя сменами блюд. Обеды упростились. По вечерам мы с мамой ели макароны с сыром или рисовый пудинг. Думаю, это огорчало Джейн. Понемногу маме удалось также взять на себя заказы, чем в былые времена занималась Джейн. Один из папиных друзей получал большое удовольствие, слушая, как Джейн по телефону отдает распоряжения:
— Я хочу шесть лангустов — только не омаров, — свежих, и креветок, не меньше чем…
Это «не меньше чем» было излюбленным выражением в нашей семье. Кстати, «не меньше чем» заказывала не только Джейн, но и наша следующая кухарка, миссис Поттер. Что за благословенные времена были для торговцев!
— Но я всегда заказывала двенадцать филе камбалы, — в отчаянии говорила Джейн. Тот факт, что у нас не было теперь достаточно ртов, чтобы съесть двенадцать филе, даже считая ее и ее помощницу, не укладывался в голове Джейн.
Все эти изменения очень мало затрагивали меня. Такие понятия, как роскошь или экономия, в юные годы не имеют значения. Что купить — леденцы или шоколад — не так уж важно. К тому же я всегда предпочитала камбале макрель, а мерлуза, кусающая себя за собственный хвост, всегда казалась мне верхом совершенства.
Моя жизнь текла по-прежнему. Я поглощала огромное количество книг — проработала всего Хенти и набросилась на Стэнли Уэймана (какие восхитительные исторические романы!). Однажды я перечитала «Трактир в замке» и нашла его прекрасным.
«Пленник Зенды» открыл мне, как и многим другим, жанр романа. Я зачитывалась им, влюбившись по уши не в Рудольфа Рассендилла, как можно было ожидать, но в настоящего короля, заточенного и горюющего в башне. Я жаждала спасти его, освободить, убедить, что я, Флавия, любила именно его, а не Рудольфа Рассендилла. Я прочитала по-французски всего Жюля Верна — «Путешествие к центру земли» многие месяцы оставалось моей любимой книгой. Я наслаждалась контрастом между благоразумным племянником и самоуверенным дядей. Любую книгу, которая нравилась мне по-настоящему, я всегда перечитывала каждый месяц; потом, по прошествии года, оставляла ее и выбирала другую.
Были также книги Л. Т. Мид для девочек — мама их терпеть не могла, находя юных героинь этих книг вульгарными, только и мечтающими о богатстве и красивых платьях. Втайне я восхищалась ими, но при этом чувствовала себя виноватой в дурном вкусе! Некоторые из книг Хенти мама читала мне вслух, досадуя, впрочем, на чрезмерную пространность описаний. Она читала мне и «Последние дни Брюса» — книга страшно нравилась нам обеим.
На уроках я корпела над трудом под названием «Великие исторические события». Проработав каждую главу, мне нужно было ответить на вопросы, помещенные в конце. Из нее я узнавала о главных европейских и мирового значения событиях, произошедших во время правления английских королей, начиная с короля Артура. Как приятно, когда вам твердо говорят, что король Такой-то плохой; эта книга отличалась библейской категоричностью. Я узнала даты рождения и смерти всех английских королей и имена всех их жен, — не могу сказать, чтобы эта информация хоть сколько-нибудь пригодилась мне в жизни.
Каждый день я занималась также орфографией, исписывая целые страницы трудными словами. Думаю, некоторую пользу эти упражнения мне принесли, но я всегда писала с кучей ошибок и делаю их по сей день.
Главное удовольствие доставляла мне музыка — и уроки, и всякого рода музыкальная деятельность, связанная с семьей Хаксли. У доктора Хаксли и его рассеянной, но умной жены было пятеро дочерей — Милдред, Сибил, Мюриэл, Филлис и Инид. По возрасту я находилась между Филлис и Мюриэл, моей лучшей подругой, смешливой девочкой, с вытянутым лицом с ямочками на щеках, что довольно необычно для лиц такой формы, и светлыми пепельными волосами.
Я впервые встретилась с Мюриэл и Филлис на уроке пения. Мы, десять — двенадцать девочек, пели раз в неделю хоровые сочинения и оратории под руководством учителя пения мистера Крау, а также играли в «оркестре»: мы с Мюриэл — на мандолинах, Сибил и девочка по имени Конни Стивенс — на скрипке, а Милдред — на виолончели.
Вспоминая теперь Хаксли, я должна признать, что это было отважное семейство. Завзятые святоши из старых обитателей Торки косо посматривали на «этих Хаксли» главным образом потому, что у них было заведено прогуливаться по Стрэнду, коммерческой улице Торки, от двенадцати до часа дня. Впереди, держась за руки, три девочки, а вслед еще две и гувернантка; они жестикулировали, веселились, бегали взад и вперед, хохотали, но, что самое главное, они были без перчаток. Это уже откровенный вызов. Тем не менее, поскольку мистер Хаксли был самым модным доктором в Торки, а миссис Хаксли — то, что называется «хорошего происхождения», девочки были приняты в свете.
Нравы в ту пору отличались некоторым своеобразием, представляя собой, конечно, одну из форм снобизма. Однако некоторые проявления снобизма вызывали всеобщее презрение. Тех, кто слишком часто намекал на свой аристократизм, осуждали и высмеивали. Три фазы обсуждения, следующие друг за другом, я слышала всю жизнь.




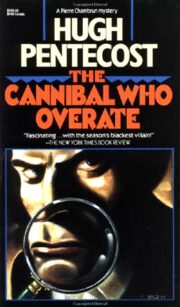

Эта книга Агаты Кристи была для меня открытием. Я был поражен тем, как автор смог передать все сложности и прелести жизни в двух мирах. Она показывает нам, как мы можем преодолеть препятствия и достичь своих целей. Эта книга помогла мне понять, что неважно, какие препятствия вас окружают, вам всегда можно достичь своих целей, если вы готовы постараться. Я очень рекомендую эту книгу всем, кто ищет вдохновения и мотивации.