Я показала рассказ сестре и предложила ей разыграть по нему спектакль. Сестра немедленно заявила, что лучше она будет кровожадной леди Мэдж, а я — благородной леди Агатой.
— Но разве ты не хочешь быть хорошей? — спросила я, пораженная. Сестра ответила отрицательно и сказала, что гораздо интереснее быть плохой. Я пришла в восторг, потому что предложила Мэдж играть положительную роль исключительно из вежливости.
Помню, папа умирал от смеха, — впрочем, весьма доброжелательного, а мама сказала, что, может быть, мне стоит подобрать какое-нибудь другое слово вместо «кровожадной», потому что это слишком сильное выражение.
— Но она была кровожадной, — объяснила я. — Она убила много людей. Как кровавая Мария Тюдор… Она ведь тоже сжигала людей, привязанных к столбам.
Волшебные сказки играли в моей жизни большую роль. Бабушка дарила мне книги на день рождения и на Рождество: «Желтая книга волшебных сказок», «Голубая книга волшебных сказок» и так далее — я любила все и перечитывала их снова и снова. Еще был любимый сборник рассказов о животных, написанный Эндрю Лэнгом, включающий, среди прочих, рассказ «Андрокл и лев».
Примерно тогда же я открыла для себя серию книг миссис Моулсворт, самой известной тогда детской писательницы. Эти книги сопровождали меня многие годы, и, перечитывая их теперь, я снова убеждаюсь, что они очень хороши. Конечно, нынешние дети нашли бы их устаревшими, но миссис Моулсворт искусно закручивала сюжет и умела создавать характеры. «Рыжие», «Просто малыш», «Господин Крошка» предназначались для совсем маленьких, так же как и множество волшебных сказок. Мне и сейчас случается перечитывать «Часы-кукушку» и «Комнату с гобеленом». Но самую любимую из всех — «Хутор на четырех ветрах» — я нахожу теперь неинтересной и не понимаю, почему она так сильно нравилась мне в детстве.
Чтение считалось слишком большим удовольствием, чтобы стать добродетелью. Никаких сказок до обеда. Предполагалось, что по утрам нужно делать что-нибудь «полезное». И по сей день, если после завтрака я сажусь почитать какой-нибудь роман, то чувствую себя виноватой. По воскресеньям запрещались карточные игры. Я преступила заповедь Няни, считавшей карты «дьявольскими картинками», но и много лет спустя в воскресный день за бриджем не могу избавиться от ощущения, что делаю что-то дурное.
Незадолго до ухода Няни мама с папой на некоторое время уехали в Америку. Мы с Няней отправились в Илинг. Мне предстояло провести там несколько месяцев — какое счастье! Все хозяйство Тетушки-Бабушки держалось на старой, морщинистой кухарке Ханне, настолько же тощей, насколько пышнотелой была Джейн, — просто-напросто мешок костей; глубокие складки на лице и сутулая спина. Готовила она великолепно. Ханна тоже пекла домашний хлеб три раза в неделю, и мне позволялось присутствовать в это время в кухне, помогать и делать самые маленькие крендельки. Только один раз мне случилось вызвать ее недовольство: я спросила, что такое гусиные потроха. Очевидно, хорошо воспитанные молодые леди не спрашивают о таких вещах, как гусиные потроха. Я носилась по кухне взад-вперед и дразнилась:
«Ханна, а что такое гусиные потроха? Ханна, я в третий раз спрашиваю, что такое гусиные потроха?» В конце концов Няня увела и отчитала меня, а Ханна не разговаривала со мной два дня. С тех пор я изо всех сил старалась не нарушать правил приличия.
Однажды в Илинг мне пришло письмо из Америки от папы: в нем сообщалось, что мне оказана честь присутствовать на праздновании шестидесятилетия Тетушки-Бабушки. Папино письмо, написанное согласно требованиям времени довольно велеречиво, не имело ничего общего с его манерой говорить, полной юмора и порой довольно рискованных шуток.
«Агата, будь как можно более внимательной к дорогой Тетушке-Бабушке, ведь ты понимаешь, с какой необычайной добротой она всегда обращалась с тобой. Я узнал, что тебе предстоит присутствовать на великолепном зрелище, которого ты никогда не забудешь, — такое доводится увидеть лишь раз в жизни. Ты должна выразить Бабушке глубокую признательность; показать, как дорого тебе ее отношение. Мне бы тоже очень хотелось быть в этот день среди вас, так же, как и маме. Я знаю, что ты никогда не забудешь этот день».
Папа не обладал пророческим даром, потому что я именно забыла юбилей. До чего же дети странные существа! Что приходит мне на память, когда я оглядываюсь в свое прошлое? Всякая чушь: домашняя портниха, крендельки, которые я делаю в кухне, запах изо рта полковника Ф. И о чем я забыла? О зрелище, за мое участие в котором кто-то заплатил немало денег, только чтобы я увидела и запомнила его. Я очень сердита на себя. До чего же несносным и неблагодарным ребенком я была!
Это напоминает мне об одном совпадении, настолько потрясающем, что любому оно показалось бы неправдоподобным. Случилось это во время похорон королевы Виктории. И Тетушка-Бабушка, и Бабушка Б. — обе собирались присутствовать на них. Они загодя обеспечили себе окно в доме где-то вблизи от Паддингтона и должны были встретиться там в этот великий и торжественный день. Чтобы не опоздать, Бабушка встала у себя в Илинге в пять часов утра и поспешила на станцию метро «Паддингтон». Она высчитала, что таким образом прибудет на место за добрых три часа до начала церемонии, и захватила с собой вышивание, кое-что из еды и какие-то необходимые мелочи, чтобы скрасить ожидание. Увы, времени, рассчитанного ею впрок, не хватило. Улицы были запружены толпой. Выйдя из станции метро, она уже не могла сделать ни шага вперед. Два санитара из «скорой помощи» вытащили ее из толпы и убедили в том, что ей не удастся пройти дальше.
— Но я должна! Должна! — плакала Бабушка, и слезы струились по ее лицу. — У меня есть комната, у меня есть место, два первых стула у второго окна на втором этаже, чтобы все рассмотреть.
— Это невозможно, мэм, улицы забиты, никому не пройти в ближайшие полчаса.
Бабушка зарыдала сильнее. Санитар, добрый человек, сказал:
— В любом случае, мэм, вы ничего уже не увидите, но я провожу вас до нашей машины вниз по этой улице, вы сможете сесть, и вам приготовят хорошую чашку чая.
Бабушка пошла с ними, не переставая плакать. Около кареты «скорой помощи» сидела похожая на нее телосложением дама, тоже плачущая, монументальная фигура в черном бархате, расшитом бисером. Они переглянулись и одновременно испустили два диких возгласа:
— Мэри!
— Маргарет!
И два гигантских бисерных бюста прильнули друг к другу.
Глава пятая
Размышляя о том, что доставляло мне в детстве наибольшее удовольствие, я склоняюсь к мнению, что твердое первенство принадлежало обручу, этой самой простой игрушке, которая стоила… сколько? Шесть пенсов? Шиллинг? Никак не больше. И какое неоценимое облегчение для родителей, нянь и слуг! В погожий день Агата идет в сад играть с обручем, и все могут быть совершенно спокойны и свободны, вплоть до следующей трапезы, или, точнее говоря, до момента, когда даст о себе знать голод.
Обруч по очереди превращался в коня, морское чудовище и железную дорогу. Гоняя обруч по тропинкам сада, я становилась то странствующим рыцарем в доспехах, то придворной дамой верхом на белом коне, Кловером (из «Котят»), совершающим побег из тюрьмы, или — несколько менее романтично — машинистом, кондуктором или пассажиром на трех железных дорогах моего собственного изобретения.
Я разработала три ветки: «Трубная» — железная дорога с восемью станциями протяженностью в три четверти сада, «Баковая» — по ней ходил товарный поезд, обслуживающий короткую ветку, начинавшуюся от огромного бака с краном под сосной, и «Террасная» железная дорога, которая шла вокруг дома. Совсем недавно я обнаружила в чулане лист картона, на котором каких-то шестьдесят лет назад коряво начертила план железнодорожных путей.
Никак не могу постичь теперь, почему мне доставляло такое неизъяснимое удовольствие гнать перед собой обруч, останавливаться и кричать: «Ландышевая». Пересадка на «Трубную». «Труба». «Конечная. Просьба освободить вагоны». Я играла так часами. Наверное, это были великолепные физические упражнения. Я со всей прилежностью постигала искусство так бросать свой обруч, чтобы он возвращался ко мне, этому трюку меня научил один из наших друзей — морских офицеров. Сначала у меня ничего не получалось, но я упорно пробовала снова и снова и наконец уловила нужное движение — как же я была счастлива!
В дождливые дни на свет появлялась Матильда. Большая американская деревянная лошадь-качалка. Матильду подарили сестре и брату еще в Америке, когда они были маленькими. Ее привезли в Англию и теперь оставшуюся от нее бледную тень — грива вылезла, краска облупилась, хвост исчез и т. д. — поместили в примыкавшую к дому маленькую теплицу, не путать с оранжереей, помпезным сооружением, уставленным горшками с бегонией, геранью, целыми ярусами всевозможных папоротников и несколькими пальмами. Маленькая теплица называлась, сама не знаю почему, К. К. (а может быть, Кай Кай?); лишившись всех растений, она приютила у себя крокетные молотки, обручи, мячи, сломанные садовые кресла, старые крашеные железные столы, рваную теннисную сетку и Матильду.
Матильда работала прекрасно — гораздо лучше всех английских лошадей-качалок, которых я когда-либо видела. Оседланная, она скакала вперед и назад, вверх и вниз и, если ее как следует пришпорить, могла запросто сбросить седока. Рессоры, нуждавшиеся в смазке, отчаянно стонали, и к удовольствию примешивалось чувство опасности. Опять же прекрасная тренировка. Неудивительно, что я была тощей. Компанию Матильде составлял Верный, тоже заокеанского происхождения. Верный — маленький крашеный конь с педальной коляской. Вероятно, из-за долгих лет неподвижности педали больше не крутились. Щедрая порция смазки, конечно, сделала бы свое дело, но существовал гораздо более легкий способ заставить Верного служить. Подобно всем садам в Девоне, наш сад располагался на склоне холма. Мой метод состоял в том, чтобы втащить Верного на самую верхушку поросшего травой откоса, осторожно сесть на него верхом, прошептать ему на ухо что-нибудь подбадривающее — и вот мы уже едем вниз, сначала медленно, потом набирая скорость, так что мне приходится тормозить ногами, чтобы остановиться у самой араукарии в глубине сада. Потом я снова втаскивала Верного на вершину, и все начиналось сначала.



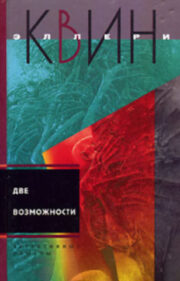
Эта книга Агаты Кристи была для меня открытием. Я был поражен тем, как автор смог передать все сложности и прелести жизни в двух мирах. Она показывает нам, как мы можем преодолеть препятствия и достичь своих целей. Эта книга помогла мне понять, что неважно, какие препятствия вас окружают, вам всегда можно достичь своих целей, если вы готовы постараться. Я очень рекомендую эту книгу всем, кто ищет вдохновения и мотивации.