На самом деле ничего нового, конечно, нет. Все забывается и, повторяясь, воспринимается как нечто небывалое. Я опять впадаю в безысходное отчаяние, чувствую себя не способной к какой бы то ни было творческой работе. Но делать нечего: через этот несчастный период неизбежно приходится проходить. Словно запускаешь хорьков в кроличью нору, чтобы они вытащили оттуда зверька, который тебе нужен, и ждешь, между тем как в тебе происходит какая-то подспудная борьба, ты проводишь часы в томительном ожидании, чувствуешь себя не в своей тарелке. О будущей вещи думать не можешь, книгу, которая попадается под руку, толком не в состоянии читать. Пытаешься разгадывать кроссворд — не удается сосредоточиться, ощущение безнадежности парализует.
Затем, по какой-то неизвестной причине, срабатывает внутренний «стартер», и механизм начинает действовать, ты понимаешь, что «оно» пришло, туман рассеивается. С абсолютной ясностью ты вдруг представляешь себе, что именно А. должен сказать Б. Выйдя из дома и дефилируя по дороге, энергично беседуешь сам с собой, воспроизводя диалог между, скажем, Мод и Элвином, точно зная, где он происходит, и ясно видя других персонажей, наблюдающих за героями из-за деревьев. Перед твоими глазами возникает лежащий на земле мертвый фазан, который заставит Мод вспомнить нечто забытое, и так далее и так далее. Домой возвращаешься, распираемая удовольствием; еще ничего не сделано, но ты уже в порядке и торжествуешь.
В такой момент писание пьес представляется мне занятием увлекательнейшим, видимо, просто потому, что я дилетант и не понимаю, что пьесу необходимо придумать — писать можно лишь ту пьесу, которая уже полностью придумана. Написать пьесу гораздо легче, чем книгу, потому что ее можно мысленно увидеть, здесь вы не зажаты в тиски неизбежных в книге описаний, которые мешают развивать сюжет динамично. Тесные рамки сценического диалога облегчают дело. Вам не нужно следовать за героиней вверх и вниз по лестнице или на теннисный корт и обратно, а также «думать мысли», которые приходится описывать. Вы имеете дело лишь с тем, что можно увидеть, услышать или сделать. Смотреть, слушать и чувствовать — единственное, что от вас требуется.
Я знала, что всегда буду писать свою одну книгу в год — в этом я была уверена; драматургия же навсегда останется моим увлечением, и результат будет неизменно непредсказуем. Ваши пьесы одна за другой могут иметь успех, а потом, по никому не ведомой причине, следует серия провалов. Почему? Никто не знает. На моих глазах это случалось со многими драматургами. Я видела, как провалилась пьеса, которая, с моей точки зрения, была ничуть не хуже, а может быть, и лучше той, что считалась большой удачей этого театра — то ли потому, что она не завоевала зрительских симпатий, то ли написана была не ко времени, то ли постановщики и актеры изменили ее до неузнаваемости. Да, занимаясь драматургией, ни в чем нельзя быть уверенным. Каждая пьеса — великий риск, но мне нравилось играть в эту игру.
Закончив «Западню», я уже знала, что вскоре захочу написать еще одну пьесу по своей книге, а если удастся, мечтала когда-нибудь произвести на свет и оригинальное сочинение, не инсценировку. Мне хотелось, чтобы это была пьеса в полном смысле слова.
С «Каледонией» Розалинде повезло. Это была, думаю, самая замечательная из всех когда-либо виденных мною школ. Казалось, что все предметы там преподавали лучшие в своей области учителя. Конечно, самым хорошим в себе Розалинда обязана им. В конце концов она стала первой ученицей, хоть и призналась мне, что это несправедливо, так как в школе училась китаянка, которая была гораздо умнее ее. «Я знаю, почему они назвали первой меня — они считают, что первой ученицей должна быть английская девочка». Боюсь, Розалинда была права.
После «Каледонии» она поступила в «Бененден». Там с самого начала ее все раздражало. Понятия не имею, почему — по всем отзывам, это была очень хорошая школа. Розалинда никогда не училась ради того, чтобы учиться, — в ней не было никаких задатков ученого. Менее всего ее интересовали предметы, которые любила я, например, история, но у нее хорошо шла математика. В письмах ко мне в Сирию она часто просила разрешить ей уйти из «Бенендена». «Я не выдержу здесь еще год», — писала она. Однако я считала, что раз уж она начала свою школьную карьеру, следует ее должным образом завершить, поэтому отвечала, что сначала нужно получить аттестат, а потом можно уходить из «Бенендена» и продолжать образование в другом месте.
Мисс Шелдон, Розалиндина классная дама, написала мне, что Розалинда собирается по окончании следующего семестра сдавать экзамены на аттестат; она, мисс Шелдон, сомневается, что у моей дочери есть шанс выдержать их, но почему бы не попробовать? Мисс Шелдон ошиблась, потому что Розалинда с легкостью сдала экзамены. Мне предстояло обдумать следующий шаг в судьбе почти уже пятнадцатилетней дочери.
Розалинда и я сошлись на том, что ей следует поехать за границу. Мы с Максом отправились выполнять миссию, которая всегда давалась мне с огромным трудом — выбирать место, где Розалинда продолжит учебу. Выбор предстояло сделать между некоей парижской семьей, несколькими в высшей степени благовоспитанными молодыми дамами, державшими школу в Эвиане, и, наконец, школой в Лозанне, возглавлявшейся тремя педагогами, которых нам горячо рекомендовали. Было еще учебное заведение в швейцарском местечке Гштаад, где девочки наряду с прочими дисциплинами овладевали мастерством катания на лыжах и другими зимними видами спорта. Я не умела расспрашивать людей. Как только я садилась напротив, язык мой словно прилипал к нёбу. А в голове вертелось: «Посылать мне сюда свою дочь или нет? Как мне узнать, что вы за люди? Господи, как мне узнать, хорошо ли ей будет с вами? И вообще, как тут?» Вместо этого я начинала мямлить: «Э… э…» — и задавать, по-видимому, совершенно идиотские вопросы.
После множества домашних советов мы выбрали мадемуазель Тшуми из Гштаада. И потерпели фиаско. Розалинда писала мне чуть ли не по два раза в неделю: «Мама, здесь ужасно, совершенно ужасно. Девочки здесь, ты даже не можешь себе представить, какие они! Они носят ленты в волосах — надеюсь, тебе все ясно?»
Мне ничего не было ясно. Я не понимала, почему бы девушкам не носить ленты в волосах, во всяком случае, я не знала, что уж такого плохого в этих лентах.
«Мы ходим парами — парами, ты только вообрази! В нашем-то возрасте! И нас никуда не пускают, даже в деревню купить что-нибудь в магазине. Ужасно! Как в тюрьме! И не учат ничему. Что касается ванн, о которых ты говорила, так это просто вранье! Ими никто не пользуется. Ни одна из нас ни разу не приняла ванны! Здесь и горячей воды-то нет. А чтобы кататься на лыжах, мы находимся, разумеется, слишком низко. Может, в феврале здесь и будет достаточно снега, но и тогда сомневаюсь, чтобы нам разрешили кататься».
Мы вырвали Розалинду из темницы и отправили сначала в пансион в Шато д'Экс, а потом в очень милую старомодную семью в Париж. Возвращаясь из Сирии, заехали туда за ней, питая надежду, что теперь она говорит по-французски. «Более-менее», — ответила на наш вопрос Розалинда и тщательно следила за тем, чтобы мы не услышали от нее ни одного французского слова. Но вдруг она заметила, что таксист, который вез нас с Лионского вокзала в дом мадам Лоран, делает крюк. Розалинда высунула голову в окно и на живом, беглом французском языке поинтересовалась, почему он поехал именно по этой улице, а затем указала ему более короткий путь. Шофер был посрамлен, а я порадовалась тому, что благодаря этому случаю получила основание утверждать, что Розалинда говорит по-французски.
У нас с мадам Лоран состоялась дружеская беседа. Она заверила меня, что Розалинда ведет себя очень хорошо, всегда comme il faut. «Но, — продолжала она, — madame, elle est d'une froideur excessive! C'est peut-etre le phlegme britannique?»
Я поспешно подтвердила, что это «le phlegme britannique». Мадам Лоран все время повторяла, что старалась быть Розалинде матерью. «Mais cette froideur — cette froideur anglaise!»
Мадам Лоран вздохнула при воспоминании о том, как был отвергнут ее бурный сердечный порыв.
Розалинде предстояло прожить за границей еще полгода, а может, год. Она провела это время под Мюнхеном, в одной немецкой семье, изучая немецкий язык. Следующий ее сезон был лондонским.
Здесь ее ждал безоговорочный успех, ее называли одной из самых привлекательных дебютанток года, и она развлекалась вовсю. Я лично думаю, что это пошло ей на пользу — придало уверенности в себе и позволило приобрести светские манеры, а также навсегда излечило от безумного желания без конца участвовать в шумных забавах. Она сказала, что подобный опыт не был лишним, но больше совершать все эти глупости она не намерена.
Я заговорила с Розалиндой о работе — при этом присутствовала ее лучшая подруга Сьюзен Норт.
— Ты должна сделать выбор, — безапелляционно заявила я дочери. — Мне все равно, чем ты займешься, но надо что-то делать. Почему бы не выучиться на masseuse? Это всегда пригодится в жизни. Или изучи искусство аранжировки цветов.
— О, этим сейчас все увлекаются, — возразила Сьюзен. В конце концов девочки пришли ко мне и сообщили, что решили заняться фотографией. Я очень обрадовалась, так как и сама хотела более серьезно заняться ею. На раскопках большую часть снимков приходилось делать мне, и я считала, что уроки в фотостудии окажутся для меня весьма полезными, ведь я мало что понимала в этом деле. Столько наших находок надо было снимать прямо на месте раскопок, вне студийных условий. И поскольку некоторым из них предстояло остаться в Сирии, было чрезвычайно важно сделать с них как можно более хорошие снимки. Я с энтузиазмом принялась рассуждать на эту тему и вдруг увидела, что девочки прыскают со смеху.
— Мы имеем в виду вовсе не то, что ты, — сказала Розалинда. — Мы не собираемся брать уроки фотографии.
— А что вы собираетесь делать? — обескураженно спросила я.




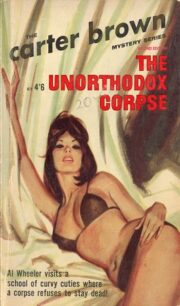
Эта книга Агаты Кристи была для меня открытием. Я был поражен тем, как автор смог передать все сложности и прелести жизни в двух мирах. Она показывает нам, как мы можем преодолеть препятствия и достичь своих целей. Эта книга помогла мне понять, что неважно, какие препятствия вас окружают, вам всегда можно достичь своих целей, если вы готовы постараться. Я очень рекомендую эту книгу всем, кто ищет вдохновения и мотивации.