Хотя мой отец был еще мальчиком, когда скончался его дедушка, влияние Джона Дойла было определяющим. Призрачная рука традиции коснулась процесса становления личности. И оттого нам следует обратить особое внимание на Джона Дойла. Уже более столетия минуло с тех пор, как личность художника, скрывшегося за загадочным псевдонимом «НВ», была предметом жарких споров в обществе, но документы, имеющиеся в моем распоряжении, помогут освежить потускневшую картину. В двадцатых годах прошлого века объявился гений, чьи анонимные карикатуры настолько захватили внимание публики, что их появление в книжных лавках или витринах издателей сопровождалось длиннющими очередями — это повторилось семьдесят лет спустя, когда стали появляться произведения его внука. В дело были замешаны крупные политические деятели. Как на автора этих карикатур молва, в частности, указывала на Хейдона, который благородно отклонил это предположение словами: «Но ведь он гений». И в то время как «инкогнито» оставалось неразгаданным, ирландский художник Джон Дойл невозмутимо продолжал выставлять свои картины в Королевской академии. Тридцать лет спустя, когда он позволил приподнять завесу тайны, более 900 его рисунков, собранных и переданных князем Меттернихом, находились уже в Британском музее, а еще за три или четыре листа правительство уплатило 1000 гиней. Скульптурный портрет, созданный Кристофером Муром в 1849 году, дает представление не только о его величественном облике, но и о той таинственности, что окружала загадку «НВ». Вращаясь в кругу Байрона, Скотта и Шеридана, он покинул общество, когда решил, что «великая эра» уходит в прошлое. Очень немногие, среди которых выделяются Милле, Теккерей, Росетти и Ландсир, были вхожи, как друзья его сыновей, в дом № 17 по Кембридж-террас, но, как вспоминает Льюис Ласк, «эти замкнутые Дойлы не жаловали вторжений из внешнего мира».
Под его покровительством (а о нем отзывались, как о натуре весьма властной) четверо его сыновей встали на путь, приведший их к славе, и появление Артура Дойла воспринималось просто как появление пригодного материала для третьего поколения художников. Однако своенравная Судьба приладила к его кисти перо, и его «живопись» выразилась в ярких картинах «Белого отряда», живости «Родни Стоуна» и в бессмертном образе детектива. Получая по десять шиллингов за слово, «непослушный» сын стал самым высокооплачиваемым автором в мире.
Тех, чье знание о моем отце сводится к Холмсу, к спортивным победам или служению спиритизму, может удивить, что детство сэра Найджела и обстановка, его окружавшая, почти в точности списана с детства самого Конан Дойла. Единственное различие состоит во времени и месте действия, каковое из древней обители его предков превратилось в скромное жилище на Либертон-бэнк. Воспитание Конан Дойла было столь основополагающим и значительным, что заслуживает более подробного описания.
Уже сама атмосфера дома дышала рыцарским духом. Руководимый матушкой мальчик стал знатоком геральдики и почитателем древностей. Конан Дойл научился разбираться в гербах много раньше, чем познакомился с латинским спряжением. Когда к нему в руки попали школьные учебники, сыгравшие весьма второстепенную роль в его образовании, он уже с головой ушел во все хитросплетения своей родословной, со всеми младшими ветвями рода и брачными узами за шесть предшествовавших столетий, и, что самое главное, как верное мерило земных ценностей, ему был привит незыблемый и неумолимый кодекс древнего рыцарства, со всеми последствиями, которые это может иметь в становлении личности и характера юноши. Волшебными сказками ему служили страницы Фруассара и Де Монстреле: воображаемые приключения обрастали подробностями из семейной хроники. Короче говоря, мы видим мальчика, с нежнейшего возраста погруженного в рыцарскую науку пятнадцатого века, растущего в лоне семьи, для которой родовая гордость имела бесконечно большее значение, чем неудобства, вызванные сравнительной бедностью окружающей обстановки. Все это я услыхал из уст моего отца. Более того, еще ребенком я тоже испытал на себе точно такое же влияние моей бабушки, которая бесконечные занятия геральдикой оживляла рассказами о детстве моего отца, о благородном существовании древнего обнищавшего, но не увядающего рода. Сколь глубоко в сознании моего отца укоренилось рыцарское воспитание, видно из того, что первые уроки французского, преподанные мне моим отцом, велись не по книжке «Французский без слез», а по «Мемуарам сестры Жуанвилль»; или из того, что, когда в детстве выздоровление после тяжелой болезни зависело от моего желания побороть недуг, он подбадривал меня не обещаниями роскошных игрушек или золотой монеты, а призывами к моему мужеству; крошечная цветная картинка, изображавшая французских рыцарей и лучников при Аженкуре, — талисман, с которым я не расстаюсь и по сей день. А у камина рассказывались древние легенды, неизменно завораживая воображение сперва мальчика, потом юноши и наконец мужчины; оживали история и исторические персонажи, а период смены кольчатых доспехов чешуйчатыми, волшебное искусство Антона Пеффенхаузера и старые германские оружейники ознаменовали конец детства, прошедшего под влиянием того же воспитания, которое сформировало характер моего отца. Позднее, когда я повзрослел, напор грубой современности все чаще сталкивался с суровым кодексом джентльмена, который — внимательно и чутко относясь к переходному периоду возмужания, многими родителями просто незамечаемому, — придерживался средневековых мерок во всех основных сторонах жизни: женщины, деньги, обращение с нижестоящими, родовая гордость, нетерпимая к снобизму, готовность к самопожертвованию в отношениях с соратниками — таковы статьи кодекса, настолько неотторжимого от его натуры, что, любя отца, я просто не могу позволить себе слишком явных его нарушений. Это — основа. Это — сущность. И осознание этого наполняет смыслом, скажем, такой эпизод: мой отец в одних носках стоит на гравийной дорожке и, благодушно наблюдая, как весьма грязный бродяга удаляется в его великолепных башмаках для гольфа, приговаривает: «Ему они нужней».
Тот же рыцарский кодекс, когда Конан Дойл, как и его предки, пожертвовавшие всем ради католичества, пожертвовал всем ради спиритизма — веры, которую многие противопоставляют католичеству, — лишь усугублял унаследованную непреклонность. Дважды в четырех поколениях складывалась ситуация, «столь излюбленная романистами, но столь редко встречающаяся в жизни», когда целая семья жертвует всем, кроме чести, во имя веры и — что делает необыкновенную ситуацию еще необыкновенней — ради учений, столь далеко друг от друга отстоящих.
Как и всякий истинный аристократ, Конан Дойл крайне пренебрежительно относился к своему возвышению. Он, пока матушка не уговорила его, отказывался принять рыцарский титул, пренебрег званием пэра во имя проповеди спиритизма, и лишь после его смерти мы узнали, что он был кавалером Короны Италии. Многие недоумевали, почему в своих книгах он не именовал себя сэром. Объясняется это тем, что титулы сами по себе значили для него едва ли больше, чем спортивные достижения, но ответственность и рыцарственность — качества, которые, по его мнению, должны были естественным образом наследоваться в древнем или благородном роде. Ребенком, сидя у него на коленях, я узнал, что есть три черты, характеризующие джентльмена: во-первых, покровительственное и рыцарственное отношение к женщинам, во-вторых, вежливое обращение с теми, кто стоит ниже на социальной лестнице, и в-третьих, повышенная щепетильность в финансовых делах.
Юноша необузданный, я со всей присущей молодости дьявольской изобретательностью не раз имел случай познакомиться с кодексом Конан Дойла. В таких проделках, как неумышленный выстрел по садовнику (что, по счастью, закончилось дружбой с ним на всю жизнь), или когда я размозжил о дуб автомобиль, обошедшийся отцу в 700 гиней, или когда замечательное изобретение, состоящее из спичек и пружины, вызвало пожар в биллиардной, я испытывал на себе гнев достаточно бурный, чтобы отбить охоту к повторению подобных опытов, однако в нем сквозил какой-то едва уловимый оттенок, придающий моим воспоминаниям об этих случаях некоторую теплоту. Однажды и лишь однажды видел я такую вспышку великой — как все реакции отца — ярости, что она оставила глубокий рубец на моей памяти. На сей раз речь шла не о пустяке вроде 700 гиней. Я, к моему вечному стыду, был крайне непочтителен со служанкой. Под угрозой оказался сам кодекс чести. Впоследствии, когда я вошел в возраст, в котором женщины начинают волновать воображение юного ирландца, отца это ничуть не беспокоило. В положении холостяка свобода действий вовсе не обязательно должна враждовать с рыцарственностью. Но грубость по отношению к прислуге — дело иного рода. <…>
Конечно, в человеке, который мог убедить своего сына, что, случись ему заболеть венерической болезнью, он может рассчитывать на родительское понимание и помощь, была определенная широта взглядов. Напротив, была и некоторая ограниченность в этом же человеке, немедленно закипающем яростью при самом невинном из пикантных замечаний. То же можно сказать о его реакции на самые безобидные вольности, которые позволяли себе благодушные незнакомцы. Едва ли что-нибудь могло вызвать у него такую мгновенную вспышку настоящего кельтского гнева, как панибратское похлопывание по плечу, фамильярность или бесцеремонность обращения. И вместе с тем это был человек из железа, который, не дрогнув, вышел на сцену и в течение полутора часов выступал перед аудиторией, собравшейся в Танбридж-уэлс, за пять минут до того получив сообщение о смерти старшего сына. И тот же человек яростно разносит в щепки трубку сына за то, что автор этих строк имел неосторожность закурить в присутствии женщин. Приглядевшись к суровой, подчас грозной фигуре, читателю нетрудно поверить также, что он в возрасте 70 лет отправился в одну из столиц Империи с единственной целью проучить своим пресловутым зонтиком негодяя, который публично заявил, что он, Конан Дойл, воспользовался смертью старшего сына для пропаганды спиритизма.

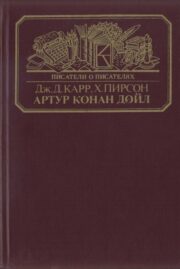
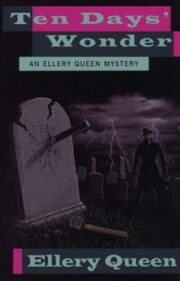



"Артур Конан Дойл" отзывы
Отзывы читателей о книге "Артур Конан Дойл", автор: Джон Диксон Карр. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Артур Конан Дойл" друзьям в соцсетях.