Конан Дойл взорвался и написал ответ, в котором указал, что «достоверные свидетельства» м-ра Шоу не согласуются со всеми фактами и что сейчас не время для упражнений в сарказме по поводу жертв «Титаника», живых или мертвых.
Ответный выпад м-ра Шоу был стремителен и тщательно отточен, как балетное па.
Он надеется, что его друг сэр Артур Конан Дойл, выразив свой романтический и горячий протест, вновь раза три или четыре перечитает его письмо. Его, м-ра Шоу, неправильно поняли. Ведь если журналисты расточают похвалы, не выяснив обстоятельств, они повинны во лжи. И нужды нет, — тут м-р Шоу отмахивается от мелких деталей, — что впоследствии появились достоверные свидетельства, подтвердившие некоторые рассказы журналистов о тех на «Титанике», кто исполнял свой долг. Он, м-р Шоу, приводит лишь первоначальные свидетельства — и таким вот антраша уводит читателя от факта, что, сам-то он, высмеивая в своем письме несчастную жертву, воспользовался как первыми, так и последующими свидетельствами.
«Ну и ладно, — отозвался бы посторонний наблюдатель. — Повеселились и хватит».
Нет, он, мистер Шоу, не может допустить сочувствия капитану Смиту. Судно капитана Смита погибло, а это — непростительная провинность. И нет такого оправдания, как бы ловко оно ни было построено, которое могло бы обратить поражение в победу. Капитан Смит не покинул корабля и погиб; и он, м-р Шоу, не произнес бы ни слова, огорчительного для семьи Смита, не начни журналисты превозносить его поведение до небес. В Королевском военно-морском флоте он непременно был бы отдан под трибунал. А «сентиментальные идиоты с надрывом в голосе» всегда вызывали у него, м-ра Шоу, только раздраженное презрение. Ему никогда не изменял здравый смысл.
Зная все это, нам тем более интересно будет взглянуть на м-ра Шоу и Конан Дойла в конце того же года, когда они выступали с речами по ирландскому вопросу.
На большом митинге в Мемориал-холле на Фаррингдон-стрит ирландские волынки вызывали на сцену ораторов. Сцена была украшена зелеными и оранжевыми полотнищами, представляющими католиков и протестантов Ирландии. Это был митинг английских и ирландских протестантов, выступающих против позиции, занятой протестантами Северной Ирландии, которые опасались, что гомруль обернется преследованием протестантского меньшинства католическим большинством.
Но за всем этим не стояла трагедия, подобная трагедии «Титаника», и выступления ораторов можно только одобрить.
Хотя были и другие выступавшие, кроме м-ра Шоу и Конан Дойла, пресса сосредоточилась именно на них. Оба были на одной стороне, придерживаясь мнения, что преследований со стороны католиков опасаться не следует. И вот на оранжево-зеленую сцену вышел м-р Шоу и обратился к собравшимся с пылкой речью.
«Я — ирландец, — сказал м-р Шоу. — Мой отец был ирландцем. Моя мать была ирландкой. Мои отец и мать были протестантами, которых можно было бы назвать, принимая во внимание глубину их веры, непримиримыми протестантами. — Тут м-р Шоу захотел тронуть сердца своих слушателей. — Но многие заботы моей матери делила с ней ирландская нянька, которая была католичкой, — выкрикнул он. — И она никогда не укладывала меня в постель, не окропив святой водой».
Здесь с сожалением приходится признать, что ирландская аудитория не в силах была сохранить серьезность. В образе м-ра Шоу, окропляемого святой водой, как-то недоставало патетики ни на взгляд протестантов, ни на взгляд католиков. Оратор в бешенстве и некотором логическом замешательстве захотел узнать, почему они смеются над такой трогательной сценой. Быть может, это и распалило его красноречие.
«Я достиг возраста, когда можно оглянуться на свою жизнь, — заявил он. — И странное и немыслимое дело — ни одно из моих достижений, которыми я обязан своим талантам, трудолюбию или здравомыслию, не вселяет в меня какой бы то ни было гордости. Но то, что я ирландец… всегда наполняло меня дикой и неугасимой гордостью».
«Что же касается собственно ирландского чувства, — продолжал он, уж неважно, с дрожью в голосе или без таковой, — я не могу выразить, что я ощущаю. Мне говорят, что надо мной нависла опасность преследования со стороны католиков этой страны, а Англия меня защитит. Я скорее дам живьем сжечь себя католикам, чем… позволю защитить себя англичанам», — закончил он фразу, но она почти потонула во взрыве смеха. Мы, конечно, понимаем, что это было нехорошо по отношению к м-ру Шоу. Это было несправедливо. Столь патриотичные высказывания могли звучать смешно, только если бы они исходили из уст какого-нибудь англичанина или американца из его пьесы. Несчастный — им не следовало смеяться над ним.
Конан Дойл, один из «сентиментальных идиотов», взял иной тон.
«Я редко посещаю политические митинги, — начал он. — Но я пройду, сколько потребуется и куда потребуется, чтобы выступить против религиозных гонений. У нас есть все основания верить, что ирландские католики станут вести себя порядочно; католическая церковь Ирландии никогда не была церковью гонителей. Такая же проблема была благополучно решена в Баварии, Саксонии, где протестантское меньшинство никогда не подвергалось гонениям.
Но важнее всего счастье и процветание страны. Мы, люди ирландской крови, чтобы принять ту или иную сторону, всегда оглядываемся на прошлое. Предки одного осаждали Дерри, другого — бились при Бойне или были изгнаны в годы голода. Если бы только ирландцы оставили в покое своих прадедушек, они могли бы острее увидеть то, что им нужно сейчас, и им было бы легче этого достичь».
Мысли Конан Дойла обращались к религии не только на этом митинге, но и на протяжении всей той осени. Некоторые размышления занес он в свою записную книжку. Отразились они и в повести «Отравленный пояс» — еще одном приключении профессора Челленджера, которое он написал перед Рождеством.
«Принесите кислород!» — закричал Челленджер. Конец мира! Пояс смертоносного газа быстро перемещается по земле, истребляя на своем пути все живое. Представьте себе небольшую группу из пяти человек, запершихся в воздухонепроницаемой комнате (в его воображении это был кабинет в Уиндлшеме с окнами, выходящими на площадку для гольфа и холмы) и под свист кислородного баллона наблюдающих, как замирает жизнь вокруг.
Они — словно пассажиры «Титаника», зажатые во льдах со всеми своими мягкими диванами и уютной безопасностью. О чем они думают в эти роковые часы? Что ощущают, когда наступает последний рассвет и доходит очередь до последнего кислородного баллона?
Такова тема «Отравленного пояса», хотя большинству читателей запоминается скорее его приключенческая сторона. Поток тревожных сообщений, нелепое поведение лондонцев, смешное начало, ведущее к мрачному концу; и вот, наконец, для Челленджера и его жены, для Мелоуна, Рокстона и Саммерли настает последнее утро, когда волна смерти готова их поглотить.
«В руки сил, что сотворили нас, мы предаем себя вновь!» — громко возгласил Челленджер и бросил бинокль, чтобы разбить окно.
«Если я буду жить после смерти, — писал Конан Дойл в записной книжке приблизительно в то же время, — меня не сможет удивить ничто из того, что я встречу за покровом вечности. Лишь одно может поразить меня. Это — осознание дословной правоты христианских догм».
В «Отравленном поясе» после того, как окно разбито, воцаряется тягостная тишина, пока пятеро героев ждут своего конца. Но вот доносится дуновение свежего воздуха, щебетание птиц и приходит прозрение: отравленный пояс рассеялся и они одни-единственные (по всей видимости), кто остался в живых. Повествование не идет на спад, самые сильные части впереди, но психологический смысл заключен именно здесь.
«Потерянный мир», опубликованный Ходдером и Стаутоном в октябре, — беззаботное, легкое приключение. И Челленджер по законам жанра — задира и хвастун. Но в «Отравленном поясе» ему вручена главная роль в ничуть не шуточной истории — автор знал Челленджера и любил его, он мог положиться на старого приятеля.
Мы, конечно, не станем утверждать, что ему виделись какие-то картины мировой катастрофы вроде мертвых городов и распластанных манекенов «Отравленного пояса». Но любопытно, как переплетаются в это время некоторые направления его мысли: параллельно с этой повестью написал он статью «Великобритания и грядущая война», появившуюся в «Фортнайт ревью» в феврале 1913 года.
Что империалистическая Германия думает о войне — и что она собирается предпринять и как, — открылось ему, когда он прочел книгу генерала фон Бернгарди «Германия и грядущая война». Он увидел в ней черновой набросок, удачно дополнявшийся в его сознании образами, запечатлевшимися во время автопробега принца Генриха. Генерал фон Бернгарди, человек в Германии известный, изъяснялся с замечательной прямотой. Прислушаемся к генеральской философии:
«Сильные, здоровые, цветущие нации увеличиваются в числе. С некоторого времени… им требуются новые территории для размещения излишков населения. Так как почти все уголки земного шара заселены, новые территории должны быть добыты завоеванием, которое, таким образом, становится законом необходимости».
Франция, говорил фон Бернгарди, должна быть уничтожена. А следом и Англия, враждебная Германии с 1761 года и намеченная к уничтожению еще со времен бурской войны.
Конан Дойл, прозрев ход подобной войны, говорил впоследствии, что прозрение это не было результатом каких-либо сознательных вычислений, а само сложилось в его мозгу как почти готовый план-схема, но чреватый новыми, непредвиденными опасностями. Великобритания считала себя изолированной, опоясанной стальным кольцом военного флота. До некоторой степени так оно и было. Но Великобритания вынуждена импортировать продукты. И если Германия нападет на Францию, что более чем вероятно, Британия должна будет тоже направить свою армию на континент и удерживать линии снабжения.

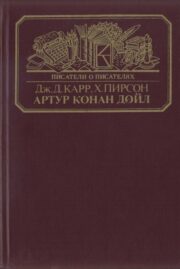
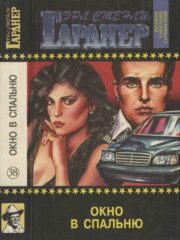



"Артур Конан Дойл" отзывы
Отзывы читателей о книге "Артур Конан Дойл", автор: Джон Диксон Карр. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Артур Конан Дойл" друзьям в соцсетях.