Другим коллегой по Британскому музею, с которым меня связывали тесные отношения на протяжении сорока пяти лет, был С. Дж. Гэдд. Гэдд умер в 1969 году, предварительно сменив Сидни Смита сначала на посту руководителя отдела, а затем на должности профессора в Школе востоковедения и африканистики. Я написал на его смерть длинный некролог для «Вестника Британской академии». Здесь я хотел бы рассказать, как много значила для меня эта утрата. В его лице я потерял и учёного друга, всегда готового поделиться знанием, и эксцентричного коллегу, и замечательного товарища. Он обладал остроумием и тем, что французы называют l’esprit fin [102]. Он был непревзойдённым специалистом по древней Западной Азии. Конечно, у этого чрезвычайно учёного человека были свои слабые места. В частности, он никак не мог понять, что результаты раскопок нельзя списать на везение, что работа хорошего археолога всегда принесёт плоды, куда бы он ни направился, а плохой не окупит потраченные деньги. Удача всегда приходит к тому, кто её заслуживает, кто готов обеими руками ухватиться за представившуюся возможность. Гэдд, человек добрый, но склонный к язвительности, был слаб характером, но имел способности к управлению. Необходимость принять решение причиняла ему острые страдания. Ипохондрик по натуре, он инстинктивно тянулся к экстравертам и с удовольствием ходил под парусом в компании энергичного Кэмпбелла Томпсона, которого считал фантастическим героем, подобным Гильгамешу. В Нимруде его любили все товарищи по экспедиции, а в особенности наш саркастический молодой архитектор Джон Рид, который ловил каждое его слово в ожидании остроты. Гэдд сделал себе имя единым росчерком пера, опубликовав в 1923 году в возрасте тридцати лет монографию, в которой рассматривалась клинописная табличка, хранившаяся в Британском музее. Монография называлась «Падение Ниневии», и «Панч»[103] встретил её появление следующим стихотворением:
Сказали нам — в шестьсот шестом
Пал нечестивый град;
И вот те на: уже о нем
Другое говорят.
В шестьсот двенадцатом теперь!
Поди попробуй им поверь!
Гэдд с лёгкостью схватывал суть любого древнего текста, попавшего к нему в руки, но при этом проявлял удивительное равнодушие к некоторым другим аспектам археологических открытий. В Нимруде он совершенно упустил из вида, что мы проследили каменную причальную стенку на отрезке продолжительностью около двух миль. Он упорно считал, что это стена дворца, и тем самым сбивал с толку оставшихся дома коллег, хотя мы нашли признаки эрозии причала под воздействием воды и того, что каменная кладка углублялась в речное дно, так что линия древнего русла реки не вызывала никаких сомнений. Впоследствии наши наблюдения были подтверждены снимками с воздуха. Я утешал себя тем, что блестящий мозг Гэдда уравновешивал тёмные участки с одной стороны вспышками гениальности с другой. Отдел Британского музея будет вспоминать его с гордостью.
Я не стану подробно рассказывать обо всех коллегах по Британскому музею, с которыми меня связывали узы дружбы. Скажу только, что они сделали мою жизнь полнее. Я уже рассказывал о Ричарде Барнетте, сменившем Гэдда на посту хранителя музея: Ричард был моим помощником в Шагар-Базаре и благодаря книге моей жены «Расскажи мне, как живёшь» прославился на весь мир своей пижамой особого покроя, внутрь которой пробралась мышь. Ричард был ещё одним кладезем научной премудрости и писал скорее слишком много, чем слишком мало.
Меня связывали долгосрочные тесные отношения ещё с одним отделом Британского музея, а именно с Научно-исследовательскими лабораториями, основанными покойным доктором Александром Скоттом, членом Королевского общества, около 1922 года. Три года спустя я начал ездить в Ур и стал в лабораториях частым гостем. Наша экспедиция снабжала их огромным количеством материалов, это было одно из первых крупных заданий, за которые взялся новый отдел. Я часто видел, как старик Скотт в полном восторге бродит по лаборатории и раздаёт рекомендации, как обращаться с неподатливыми металлами и хрупкими древними веществами всех видов. В этом деле ему весьма помогал доктор Г. Л. Плендерлейт, снискавший себе на этой ниве имя и славу. И завершал список сотрудников невероятно ленивый старик по имени Падгэм. Он обладал большим практическим опытом, но не спешил делиться знаниями. Я со всей осторожностью наблюдал издалека за его работой, и он, сам о том не подозревая, многому меня научил, в отличие от молодого Л. Х. Белла, очень проворного и ловкого юноши. Мы вместе выросли в стенах лабораторий и остались друзьями навсегда. Все нимрудские находки, за исключением великих раритетов вроде панелей из золота и слоновой кости, которые сначала посмотрел Плендерлейт, отправились в Институт археологии, и моё тесное сотрудничество с Научно-исследовательскими лабораториями прекратилось.
Перед тем как распрощаться с лабораториями, расскажу об одном эпизоде, который чуть не стал последним как в их, так и в моей карьере. Стоял жаркий летний день. Вулли уехал читать лекции в США, а я пытался подготовить находки из царского кладбища в Уре к специализированной выставке. На цокольном этаже здания, покрытом стеклянной крышей, я пережил ужасное потрясение. На длинном разборном столе я разложил фрагменты балдахина, частично состоявшие из дисков и полусфер, сложенных из веретенообразных ракушек. Разместил находки поверх слоя смоченной мешковины — так я считал, что они будут в безопасности, — и стал очищать их с помощью бунзеновской горелки: ею я растапливал воск, который мы в те дни ошибочно считали хорошим защитным покрытием для хрупких объектов. Потом я сходил на ланч в столовую музея, и, понимая, что нужно спешить, если я хочу выполнить в срок все возложенные на меня задания, вернулся на рабочее место через каких-то сорок минут. К тому времени солнце, лучи которого свободно проникали в помещение сквозь стеклянную крышу, запустило процесс самовозгорания: вспыхнула легковоспламеняющаяся джутовая мешковина, на которой покоились фрагменты балдахина, найденные на царском кладбище в Уре. Низкие языки пламени лизали деревянную столешницу, напоминавшую теперь горящую пустошь. Не сомневаюсь, что, приди я на пять минут позже, от лабораторий Британского музея не осталось бы и следа, потому что в конце стола, совсем рядом с огнём, стояли две канистры с бензином. Я схватил их и убрал из опасной зоны, а потом помчался за Падгэмом, чтобы позвать его помочь тушить пожар. Думаю, что, задержись я в столовой ещё на несколько минут, точно так же потухла бы и моя археологическая карьера.
Мне никогда не доводилось присутствовать на таких интересных собраниях, как те, что я посещаю в качестве попечителя Британского музея. Около двадцати мужчин и женщин, входящих в совет, представляют собой самые разные области человеческого знания. Есть среди них дипломаты, управленцы, художники, антиквары, юристы, финансисты, архитекторы, представители сферы образования, учёные и литераторы. Вместе они разрабатывают стратегию развития музея, выступая буфером между музеем и правительством. Они наделены властью собирать деньги и тратить их, они утверждают или отклоняют каждое серьёзное приобретение. Этот коллектив выдающихся мужчин и женщин, представителей самых разных профессий, работает безвозмездно и использует свой огромный опыт на службу музею. Также входящие в совет люди могут одобрить или отклонить кандидата на руководящий пост. Эти и другие решения они принимают со всем возможным профессионализмом и рассудительностью. До того как я присоединился к совету, я не отдавал себе отчёт, сколько задач возложено на попечителя и как важна его руководящая роль для администрации музея. Мне повезло работать под руководством этого сгустка энергии, лорда Тревельяна, всегда готового направить свой энергичный ум на решение той или иной задачи, вне зависимости от её сложности. Ничуть не меньше я ценю чуткую творческую натуру теперешнего директора музея сэра Джона Поупа-Хеннесси, в чьём характере управленческие способности редким образом сочетаются с художественным вкусом. От человека, занимающего пост директора, требуется обладать многими талантами и недюжинным умом. Также Поуп-Хеннесси мастерски владеет живым разговорным языком.
В завершение я хотел бы отметить, как мне повезло, что я смог заниматься восточной археологией в течение пятидесяти лет, правда, с пятилетним перерывом на Вторую мировую войну, но эта интерлюдия оказалась не менее интересной. Я рад, что достиг семидесяти двух лет практически невредимым. Работая над этими мемуарами, думаю, я немало выиграл от того, что никогда не вёл дневника, страницы которого хранили бы массу совершенно неинтересных сведений. Возможно, события, которые я описал, тоже попадают в эту категорию, но я вспоминаю о них с удовольствием, и на бумагу они попали только потому, что прочно засели в моей памяти. Память же моя хранит их, потому что каждый день из жизни археолога наполнен захватывающими интеллектуальными переживаниями, по большей части приятными. Правда, должен признать, что, вспоминая события прошлых дней, я опирался на основные археологические вехи моей жизни: многочисленные научные работы, статьи и книги. Таким образом, мне удалось вспомнить почти всё, а стоило немного подтолкнуть память, как всплыли и все имена. Иногда память не позволяла себя торопить, и мне приходилось ждать месяц-другой. Также мне повезло, что мои военные впечатления были необычными и запоминающимися. Надеюсь, они представляют некоторый интерес как краткая хроника того периода. О более же лёгкой стороне археологической жизни, или её части, никто ещё не рассказывал так удачно, как это сделала моя жена в своей книге «Расскажи мне, как живёшь». Книга эта была переиздана в издательстве «Коллинз» в 1975 году, и я надеюсь, что многие захотят прочитать её снова.
Эпилог
Когда я работал над последними страницами этих мемуаров, моя дорогая Агата скончалась. Она умерла тихо и без страданий, когда я перевозил её в кресле в гостиную после ланча. В последнее время она была очень слаба, и для неё смерть стала милосердным избавлением. Меня же она оставила с чувством пустоты после сорока пяти лет союза с любимым человеком и весёлым товарищем. Не каждому выпадает счастье жить рядом с человеком творческим, изобретательным, чьё богатое воображение придаёт жизни живость и остроту. Для меня огромным утешением стали сотни и сотни писем, в которых я нашёл не только восхищение, но и любовь — любовь и счастье, которые излучала сама Агата и которые излучают её книги. Покойся с миром.

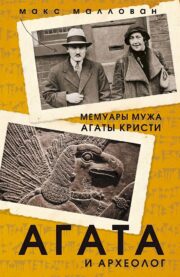


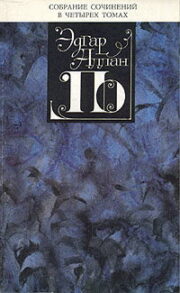

Эта книга Агаты Кристи представляет собой захватывающее чтение для всех, кто интересуется историей и археологией. Автор предоставляет прекрасное описание путешествий по миру и исследований Агаты и ее мужа, а также предоставляет интересные истории и приключения. Она показывает нам, как можно использовать историю и археологию для понимания прошлого и представления о нашем мире. Я очень рекомендую эту книгу для всех, кто интересуется историей и археологией.