Сохранить извлечённые на свет находки и обеспечить их должным уходом на протяжении полевого сезона нам помогла изобретательность Агаты и её гибкое воображение. Она моментально сообразила, что объекты, более двух тысяч шестисот лет пролежавшие под водой, следует приучать к новому и сравнительно сухому климату постепенно. Из этих соображений мы несколько недель держали «леди из колодца» под мокрыми полотенцами и день ото дня уменьшали влажность, пока скульптура не привыкла к более сухой атмосфере. Лечение каждому пациенту подбиралось индивидуально, исходя из его личного анамнеза, и со временем мы убедились в правильности принятых мер: все наши экспонаты до сих пор живы и здоровы.
Настала пора распрощаться с имперскими сокровищами акрополя, иначе мы рискуем задержаться на этой теме на много глав.
На каком бы участке северо-западного дворца мы ни вели раскопки, находки стоили потраченных усилий, будь это вазы и печати из алебастра, какие-то другие объекты или новые сведения, помогающие восстановить план дворца. Заново раскопав храм Нинурты с северной стороны, мы получили много новой информации об истории Нимруда, начиная с постройки храма в IX веке до н. э. и вплоть до окончательного разрушения города в седьмом. Припрятанные ценности и огромные сосуды для хранения масла свидетельствовали о былом богатстве. Проводя раскопки в храме, на входе в один из его длинных залов мы наткнулись на превосходно сделанную бородатую голову каменного великана, одного из пары. Найдя эту исполинскую скульптуру, Лейард снова закопал её, потому что не мог вынести из храма такую массивную находку. У нас было важное преимущество перед Лейардом: в его времена не было фотоаппарата, хотя, пока он занимался раскопками, его друг Фокс Тальбот как раз работал над этим изобретением.
Нас очень заинтересовали мощные стены акрополя, всё ещё поднимавшиеся на высоту в 43 фута и имевшие 120 футов в ширину. С восточной стороны вдоль основания стены шла дорога для экипажей, с западной на поверхность выходила огромная набережная из камня. Она растянулась на расстояние в две мили и была сложена из мощных каменных кирпичей, которые были вытесаны при Ашшурнасирпале и, как утверждается в его записях, заложены глубоко под ревущими водами Тигра. Последним человеком, упомянувшим до нас в своих заметках эту гигантскую набережную, был Ксенофонт, который в 401 году до н. э. после битвы при Кунаксе прошёл, не замочив ног, вдоль старого русла реки, когда вёл свою армию из десяти тысяч греков в героический поход к Чёрному морю. По пути он вёл записи для потомков, верные по существу, которые мы смогли дополнить 2350 лет спустя.
В заключение скажу, что мы прекрасно понимали, сколько ещё предстоит сделать, чтобы исследовать хотя бы зиккурат. Это огромная задача, которая потребует нескольких лет основательных раскопок, в результате которых должна решиться проблема подходов к зиккурату и лестниц, ведущих наверх. Если полностью обнажить его прекрасный северный фасад, сложенный из кирпича и камня, то это удивительное зрелище будет поражать воображение посетителей уже на подъезде к Нимруду. Но каждый дюйм акрополя заслуживает раскопок ничуть не меньше, в особенности огромный Центральный дворец Тиглатпаласара III, каменные барельефы которого представляют собой важнейший этап истории ассирийской скульптуры.
Завершая написание этой главы, я хотел бы поблагодарить Службу древностей Ирака и её деятельных сотрудников, которые долгие годы занимались реставрацией и поддержанием северо-западного дворца, его фасада, тронного зала и парадных покоев и тем самым увековечили выдающееся творение его основателя.
Глава 18. Нимруд: форт Салманасара
Почти десять лет мы набирались опыта на раскопках акрополя, но в течение всего этого времени я старался заслужить доверие землевладельцев в надежде, что мне удастся получить у них разрешение на работу за его пределами.
Как-то раз в воскресенье, в один из наших выходных дней в марте 1957 года, мы с нашим эпиграфистом-датчанином Йоргеном Лессёэ прогуливались вокруг внешнего города и подобрали на склоне кирпич с именем Салманасара III. С тех пор я обозначал этот участок не иначе как «Ф. С.», и коллеги постоянно спрашивали меня, что это значит. Очень скоро они узнали, что под этими буквами я подразумеваю «форт Салманасара». Как оказалось, здесь действительно располагался форт Салманасара, хотя сам царь называл его дворцом. Реставратор Асархаддон, живший позднее, подобрал для этого сооружения слово поточнее — «арсенал». Когда мы полностью раскопали обширную постройку, выяснилось, что она имеет площадь около 12 акров и состоит более чем из двухсот комнат. По размерам форт почти в два раза превышал северо-западный дворец: Салманасар ни за что не хотел проиграть собственному отцу. Восточные рубежи здания защищали высокие башни, распределённые вдоль городской стены. Сегодня о них напоминает внушительный ряд покрытых торфом пригорков, вытянувшийся вдоль линии горизонта. Высокие южные укрепления защищает Пати-хегалли, или Канал изобилия, и крутой подъём, ведущий к массивным воротам.
Западная граница форта отстояла от акрополя больше чем на милю, но её легко можно было заметить возле двух ориентиров на юго-восточном углу внешнего города — двух высоких холмов, несомненно, представлявших собой груды сырцового кирпича. Холмы располагались в ста пятидесяти метрах друг от друга и по виду напоминали небольшие зиккураты. Восточный был немного выше западного. Холмы получили название «Тулул Эль-Азар». Вездесущий Рассам провёл здесь разведку в 1873–1874 годах и, кажется, нашёл несколько разбитых изделий из слоновой кости. К счастью, этх находок было недостаточно, чтобы заинтересовать Рассама, и вскоре он переместился на другой участок. Западный холм ещё ждёт своего исследователя, но мы знаем, что он скрыл выросший и восстановленный Асархаддоном Дворец-форт, к его временам уже обветшавший. Однажды какой-нибудь археолог выяснит, какие постройки скрываются под холмом и имеют ли они отношение к основателю форта.
Скоро мы разобрались, что представляет собой восточный, более высокий «тулул». Он скрывает груду обломков, оставшуюся после падения мощных стен тронного зала царя Салманасара, которые по высоте и толщине превосходили все прочие стены дворца и были заметны издалека на фоне плоской равнины. В книге «Нимруд и его руины» я высказал предположение, что когда-то высота этих стен достигала 12 метров (чуть менее 40 футов), это сравнимо с высотой каменных стен Гордиона Ахеменидов в Малой Азии, равной 13 метрам (это более 42 футов). Дэвид Отс, которому выпало вести работы на этом участке форта, не стал браться за раскопку всего тронного зала целиком, а благоразумно раскопал его восточный край, где полоса гипса, обнажённая дождями, указывала на наличие ниши, в которой могла размещаться задняя часть огромного каменного основания царского трона. Он оказался прав. В результате многодневных глубоких раскопок на свет показался гигантский ступенчатый подиум массой более 15 тонн, сохранившийся притом в прекрасном состоянии. Судя по углублениям на горизонтальной поверхности подиума, трон, давно уже снятый со своего места, три раза менял своё местоположение.
К счастью, само основание было слишком тяжёлым, чтобы мидийцы смогли его унести с собой. Они старались поскорее отправиться дальше и окончательно уничтожить Ассирию, а перед тем, как нанести решающий удар по Ниневии, требовалось ещё осадить Ашшур и Тарбису.
Из длинной надписи на основании трона следует, что его установили на тринадцатый год правления Салманасара III, то есть около 845 года до н. э., когда строительство дворца уже практически было завершено. Переднюю и боковые грани основания украшают рельефные сцены, изображающие победы над врагами царя, главным образом в Сирии и в Халдее, у самого Персидского залива, откуда царю доставляли дань. На рельефе также изображены слуги, несущие огромные слоновьи бивни. Сирийские бивни поставлял Кальпарунда, царь Унки. Там, на Амукской равнине, пятью столетиями ранее любили охотиться фараоны.
Длинные бордюры, опоясывающие основание трона Салманасара, уступают по размеру барельефам его отца в северо-западном дворце, но выполнены с большим мастерством и свидетельствуют о его любви к миниатюрным композициям, примеры которых мы можем видеть также на Чёрном обелиске и на бронзовых вратах Балавата. Почётное место на передней стороне основания занимает сцена, изображающая, как царь Ассирии прикасается к руке Мардук-закир-шуми, возвращенного им на вавилонский трон. Празднование этого события происходит под сенью царского шатра. На рельефе с большой выразительностью изображены оба царя, их слуги и личные принадлежности. Эта сцена свидетельствует о том, как важен был для Ассирии союз с Вавилоном, важным религиозным центром. Политические связи с этим священным городом могли повлиять на то, будет ли мир или война между Ассирией и примыкавшей к ней с юга Халдеей. Тронный зал Салманасара был раскопан достаточно, чтобы мы смогли разглядеть, что его стены расписаны прекрасными картинами вместо каменных рельефов, которые предпочитал его отец. Мы снова закопали рельефы, чтобы сохранить их до времени, когда их можно будет выставить без риска.
Следы на подиуме ясно указывали на то, что трон перемещали три раза. Возможно, один раз это было сделано при Шамши-Ададе V (824–810 годы до н. э.): в одном из военных складов была найдена табличка из слоновой кости, из этого можно было заключить, что Шамши-Адад проводил здесь реставрацию. Под подиумом обнаружились осколки упавших картин, указывающие на то, что его передвигали в разгар реставрационных работ. В полу перед подиумом были сделаны две глубокие ямы для столбов, которыми пытались подпереть просевшую кровлю: по всей видимости, её частично разрушил враг. Попытка восстановить зал после первого нападения ни к чему не привела: и здесь, и на других раскопанных участках мы нашли многочисленные признаки того, что последний и окончательный разгром Нимруда произошёл почти сразу после первого. В дальнейшем на месте бывшей военной столицы Ассирии кое-как влачили жалкое существование ещё несколько поколений.

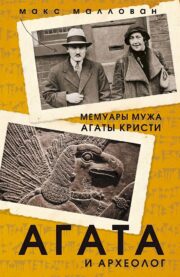

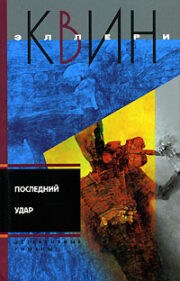
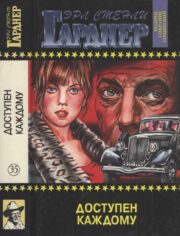
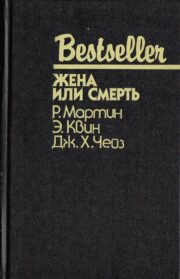
Эта книга Агаты Кристи представляет собой захватывающее чтение для всех, кто интересуется историей и археологией. Автор предоставляет прекрасное описание путешествий по миру и исследований Агаты и ее мужа, а также предоставляет интересные истории и приключения. Она показывает нам, как можно использовать историю и археологию для понимания прошлого и представления о нашем мире. Я очень рекомендую эту книгу для всех, кто интересуется историей и археологией.