Эстетическое удовольствие от пребывания в Оксфорде, его здания, его история, общество близких по духу друзей и хороших книг значили для меня больше, чем любая учебная программа, которую мог предложить университет. Я принял близко к сердцу слова нашего декана, Перси Мэтисона, с которыми он обратился к нам, первокурсникам, в древнем и прекрасном холле нашего колледжа. «Познакомьтесь с этими камнями», — сказал он. Я последовал его совету и был вознаграждён. Декан преподавал у меня древнюю историю. В его присутствии я чувствовал, будто вхожу в золотой рудник, но у меня нет инструментов, чтобы добыть самородок: для этого мне недоставало способностей. За свою любовь к Новому колледжу Перси Мэтисон заслуживал директорский пост, но начальство отдало предпочтение известному и важному человеку — Г. А. Л. Фишеру.
Наибольшую пользу мне принесли уроки Х. В. Б. Джозефа, который был настоящим испытанием для Мориса Боуры[16]. Он учил меня думать и мог заставить стыдиться тех, кто выполнял работу необдуманно или небрежно. Сколько раз я выходил из его кабинета с поджатым хвостом после часа неприятного разговора! Однако побитая собака была предана хозяину — и он, я думаю, в конце концов оставался доволен результатом работы. Мне вспоминается замечание, сделанное Россом, великим последователем Аристотеля, когда он прощался со своим учеником, Кеннетом Уиром, обучавшимся метафизике. «Скоро, — сказал он, — ты забудешь всю философию, изученную во время наших занятий, но отныне ты хотя бы сможешь распознать чушь, когда она тебе попадётся». Именно таким стал итог нашего изучения античных классиков. Читая работы некоторых известных социологов нашего времени, Маркузе и ему подобных, я не могу не пожелать, чтобы эти авторы прочли свои сочинения моим преподавателям философии и получили заслуженный нагоняй. Сейчас не принято считать, что философские работы Джозефа оставили серьёзный след в науке, но он, бесспорно, был человеком выдающегося ума и обладал талантом, на мой взгляд, необходимым хорошему педагогу, — даром заставлять человека думать.
Самым молодым и забавным из моих преподавателей был Стэнли Кассон, специалист по греческой истории и археологии. Он обладал живым умом, но не был серьёзным учёным — лучший педагог для студента, мечтающего посвятить себя археологии. Прекрасно разбирался в своём предмете. Кассон погиб при крушении самолёта во время Второй мировой войны. Это был человек, всегда готовый попробовать себя в новом деле — например, написать детектив. Именно ему я обязан рекомендацией к Леонарду Вулли. «Я написал вам рекомендательное письмо, — сказал он, — и не поскупился на похвалы». Про Кассона рассказывают, как знаменитый директор Спунер однажды утром повстречал его во дворе и сказал: «Приходите сегодня ко мне на чай, я хочу вас познакомить с нашим новым преподавателем, мистером Кассоном». — «Но, господин директор, я и есть Кассон». — «Ничего, всё равно приходите».
Из лекций, которые я посещал, больше всего мне запомнились лекции о греческих трагедиях. Их читал великий Гилберт Мюррей. Сам поэт, он насквозь пропитался духом и лирики, и эпоса. Мюррей обладал превосходной памятью и то и дело зачитывал наизусть произвольные длинные отрывки из классиков — он вещал совершенно неповторимым голосом, в котором слышались еле сдерживаемые чувства; он общался с миром, который и для него, и для нас был живым и реальным. Существовала одна проблема: Мюррей использовал подобные театральные интонации и для того, чтобы пересказать драматичный поворот сюжета в трагедии, и в повседневной жизни, для того чтобы поприветствовать приятеля или пожелать вам доброго утра. Впрочем, и сами греческие трагики страдали подобным недостатком. Этот великий человек даже к самым неприметным из нас обращался с таким уважением, словно всерьёз спрашивал нашего мнения о предмете, в котором сам превосходно разбирался. Плоды кристально ясной, порой еретической мысли Мюррея можно найти в его книгах. Французы из Лиги Наций называли его «ce doux rêveur»[17].
Менее значительной, но столь же незабвенной фигурой из моего времени в Оксфорде был пожилой, невысокого роста, седовласый преподаватель по имени С. Дж. Оуэн. Он выглядел как шаловливый фавн, вышедший из лесной чащи. Он, казалось, был до отказа набит текстами латинского поэта-циника Ювенала, которые с удовольствием нам излагал. Каждая сатира представлялась преподавателю спелым плодом, и его следовало выжать до последней капли. Хоть он и восхищался Ювеналом по неправильным причинам и даже посвятил ему льстивый сонет, он всё же вдохновлял нас своим энтузиазмом. Мне нравились забавные эпиграммы Ювенала, например «nemo repente fuit turpissimus», что можно перевести как «никто не становится мерзавцем вдруг», и другие не менее глубокие афоризмы. Чего мы ждали неделя за неделей с восхитительным предвкушением, так это ядовитых обличительных речей Оуэна в адрес А. Э. Хаусмана, поэта-латиниста, чьи взгляды на Ювенала он регулярно разносил в пух и прах. Уже много позже мы обнаружили, что таким образом наш преподаватель мстил Хаусману за разгромную критику своих ошибочных взглядов. Их Оуэн регулярно получал от последнего в журнале «Classical Quaterly»[18]. Подозреваю, что прав был обычно Хаусман.
Я должен упомянуть ещё одну достойную внимания фигуру — Перси Гарднера, профессора греческого искусства и археологии, читавшего нам лекции о греческой скульптуре. Я более или менее разбирался в предмете, и для меня речь шла о прелюдии к археологии. Перси Гарднер возвышался перед нами в сюртуке и воротничке, какие, должно быть, носили в шестидесятых годах девятнадцатого века. Он выделял нам знания из собственных невиданных запасов с неизменным выражением скуки на лице, монотонным голосом, но, как ни странно, ему удавалось удерживать наше внимание. Помню, как он хорошо отозвался о познаниях двух гидов Британского музея, звали их Скит и Халлет. Скучающим видом и монотонной речью Халлет повторял своего учителя. Когда в конце экскурсии наступало время вопросов, он часто отвечал так: «Если бы я знал ответ на этот вопрос, я бы работал не здесь, а в Британской энциклопедии». Всё же эти экскурсии по Британскому музею пробудили во мне интерес к карьере археолога. Слушая рассказ Перси Гарднера о Гермесе Олимпийском[19], я подумал, как чудесно было бы присутствовать в олимпийском храме в тот момент, когда совершили эту находку. С тех пор я всегда представлял себе скульптуры в их первоначальном окружении. Единственным моим более или менее существенным достижением за время учёбы в Оксфорде было изучение греческой скульптуры. Иногда мне даже удавалось получить высшую оценку за сочинение по этому предмету.
В первую очередь я благодарен Оксфорду не за какие-то академические достижения, а за то, что там я понял, как учиться по-настоящему, научился находить удовольствие в обществе книг и зданий. Самым замечательным приобретением была компания родственных по духу товарищей моего возраста. Где ещё можно заводить дружеские отношения с такой лёгкостью и где ещё можно найти столько доступных развлечений? Мы посещали театр как минимум раз в неделю. Нам ужасно нравился наш репертуарный театр, где декорации то и дело падали актёрам на головы. Помню, как Гилберт Мюррей разразился продолжительным смехом во время представления «Дома, где разбиваются сердца»[20] и Бернард Шоу произнёс речь, из которой следовало, что только в таком провинциальном городке, как Оксфорд, его пьесу могут встречать смехом вместо глубокомысленной тишины.
Трое из моих друзей умерли рано, не дожив и до тридцати лет. Теперь, когда я достиг уже семидесяти, я часто, вспоминая о них, размышляю о несправедливости жизни и о точности греческой пословицы, утверждающей, что те, кого любит Бог, умирают молодыми. Самым одарённым из всех был Эсме Ховард, старший сын лорда Ховарда Пенритского, впоследствии посла Великобритании в Мадриде и в Вашингтоне, где я имел честь гостить у его семьи. Эсме унаследовал блестящие способности своего отца, был добрым и щедрым любителем искусства, блистал весельем и остроумием. Мне до сих пор тепло вспоминать о нашей дружбе. Эсме, несомненно, оставил бы заметный след в истории. Он обладал таким даром убеждения, что даже заставил меня на время обратиться к католической вере. Умер Эсме в возрасте около двадцати пяти лет от болезни Ходжкина. Когда мы в последний раз с ним виделись в Берне и в Портофино, на вилле Alta Chiara, принадлежавшей вдовствующей леди Карнарвон, он выглядел совсем неважно. Он терпел страдания безропотно, с тихой верой в Бога, достойной истинного святого. Я часто вспоминаю его в молитвах.
Руперт Фремлин, мой друг со времён Лансинга, весёлый товарищ, добряк и шутник, скончался от осложнений малярии в Нигерии, так же как и Ричард Уорнер, живший со мной в башне Робинсон. Тогда в Африке эта болезнь уносила множество жизней. О Руперте у меня осталось воспоминание, как мы сидим тёплым летним вечером после партии в теннис и попиваем глинтвейн, закусывая его клубникой со сливками. Странное и неподходящее сочетание, но на наш неискушённый вкус оно было восхитительным. Несколько дольше прожил другой мой товарищ из Нового колледжа, Рональд Боаз, наделённый истинно шотландской язвительностью. Услышав слова друга о том, что единственное усвоенное им в Итоне, это фраза «честность — всегда плохая политика», Рональд ответил, что честность — это вообще не политика.
К счастью, один друг и товарищ до сих пор со мной. Это Родни Каннройтер. Сколько раз он составлял мне компанию на верхушке башни Робинсон, в моих прекрасных комнатах в Пэнди и в доме номер шесть по Шип-стрит. В подвале у нашей тамошней хозяйки был неистощимый запас фарфоровых ваз. За дополнительную плату она давала их нам взамен тех, что мы колотили в гостиной. Во время учёбы в Оксфорде мне невероятно повезло: три года подряд я ставил на победителя скачек в Дерби, и каждый выигрыш приносил мне по десять фунтов. Этих денег хватало, чтобы закатить грандиозную вечеринку человек на двенадцать. Боюсь, к концу застолья большинство из нас безобразно напивалось, но зато такие вечеринки помогали нам понять, сколько мы способны выпить без последствий, и были необходимым этапом на пути к воздержанности. Я до сих пор помню чувство отвращения, когда мой слуга, папаша Хьюс, разбудил меня утром после ночного празднования и спросил, не желаю ли я подкрепить силы стаканом бренди. Как-то раз папаше Хьюсу довелось сопровождать некоего доктора Майо на Фиджи, и там он выучил язык. Когда в результате этой поездки фиджийский принц приехал с визитом в Бейлиол[21], папаша Хьюс оказался единственным человеком, говорящим по-фиджийски, на весь Оксфорд, и его регулярно приглашали к принцу на чай.

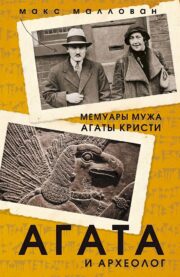


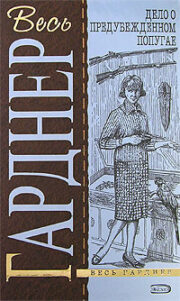
Эта книга Агаты Кристи представляет собой захватывающее чтение для всех, кто интересуется историей и археологией. Автор предоставляет прекрасное описание путешествий по миру и исследований Агаты и ее мужа, а также предоставляет интересные истории и приключения. Она показывает нам, как можно использовать историю и археологию для понимания прошлого и представления о нашем мире. Я очень рекомендую эту книгу для всех, кто интересуется историей и археологией.