И вот через несколько недель в Хойланде опять остался один доктор Риплей, Но обитатели деревни заметили, что в течение нескольких месяцев он постарел на много лет, что в его голубых глазах навсегда застыло выражение затаенной тоски, а интересные молодые леди, с которыми сталкивал его случай или заботливые деревенские маменьки, стали возбуждать в нем еще меньший интерес, чем прежде.
Из практики
— Обыкновенно люди умирают от тех болезней, изучением которых они всего усерднее занимались, — сказал доктор, обрезая кончик своей сигары со всею точностью и аккуратностью, свойственными людям его профессии.
Болезнь, подобно хищному зверю, который, чувствуя, что его настигают, оборачивается и схватывает своего преследователя за горло. Если вы слишком усердно возитесь над микробами, микробы обратят на вас благосклонное внимание. Я видел много таких примеров и не только в случаях заразных болезней. Всем хорошо известно, что Листон, всю жизнь изучавший аневризм, в конце концов сам заболел им; я мог бы привести еще целую дюжину других примеров. А что может быть убедительнее случая с бедным старым Уокером из Сан-Христофора? Как, вы не слышали об этом? Впрочем, правда, вы были тогда еще слишком молоды; но все-таки удивительно, как скоро забываются такие вещи. Вы, молодежь, настолько поглощены интересами настоящего, что прошлое для вас как бы не существует, а между тем вы нашли бы там много интересного и поучительного.
Уокер был одним из лучших специалистов по нервным болезням в Европе. Вы, наверное, знакомы с его книжкой о склерозе. Она читается, как роман, и в свое время создала эпоху в науке. Уокер работал, как вол. Не говоря уже о его громадной практике, он ежедневно по несколько часов работал в клинике, да кроме того посвящал много времени самостоятельным научным исследованиям. Ну, и жил он весело. Конечно, «de mortius aut bene, aut nihil», но ведь его образ жизни ни для кого не был секретом. Если он умер сорока пяти лет, то зато в эти сорок пять лет он сделал столько, сколько другому не сделать и в восемьдесят. Можно было только удивляться, что при таком образе жизни он не заболел раньше. Когда же болезнь, наконец, постигла его, он встретил ее с замечательным мужеством.
В то время я был его ассистентом в клинике. Однажды он читал студентам первого курса лекцию о сухотке спинного мозга. Объяснив, что один из первых признаков этой болезни заключается в том, что больной, закрыв глаза, не может составить пяток своих ног без того, чтобы не пошатнуться, он пояснил свои слова собственным примером. Я думаю, что студенты не заметили ничего. Но от меня не ускользнуло, насколько зловещим признаком результаты этого опыта были для него самого. Он также заметил это, но дочитал лекцию, не обнаружив никаких признаков волнения.
Когда лекция кончилась, он зашел ко мне в комнату и закурил сигаретку.
— Ну-ка, исследуйте мои двигательные рефлексы, Смит, — сказал он.
Я постучал молоточком по его колену, но результат был не лучше того, какой получился бы, если бы я постучал по подушке, лежавшей на софе. Его нога осталась неподвижной. Он опять закрыл глаза и сделал попытку составить пятки, но при этом пошатнулся, точно молодое деревцо под яростным напором ветра.
— Так это, значит, была не межреберная невралгия, как я думал, — сказал он.
Тут я узнал, что он уже страдал некоторое время летучими болями, и, следовательно, все признаки болезни были налицо. Я молча смотрел на него, а он все пыхтел да пыхтел своей сигареткой. Он знал, что ему грозит неизбежная смерть, сопровождаемая более утонченными и медленными страданиями, чем те пытки на медленном огне, каким подвергают пленника краснокожие. А еще вчера все улыбалось ему — человеку в полном расцвете сил, одному из самых красивых мужчин в Лондоне, у которого было все: деньги, слава, высокое положение в свете. Он сидел некоторое время молча, окруженный облаком табачного дыма, с опущенными глазами и слегка сжатыми губами. Затем, медленно поднявшись на ноги, он махнул рукой с видом человека, делающего над собой усилие, чтобы отогнать тяжелые думы и направить мысли на другой предмет.
— Лучше всего сразу выяснить вопрос, — сказал он. — Мне нужно сделать кое-какие распоряжения. Могу я воспользоваться вашей бумагой и конвертами?
Он уселся за мою конторку и написал с полдюжины писем. Не будет нарушением доверия, если я скажу вам, что эти письма не были письмами к товарищам по профессии. Уокер был человек холостой и, следовательно, не ограничивался привязанностью к одной женщине. Кончив писать письма, он вышел из моей маленькой комнатки, оставив позади себя все надежды и все честолюбие своей жизни. А ведь он мог бы еще иметь перед собой целый год неведения и спокойствия, если бы совершенно случайно не пожелал иллюстрировать свою лекцию собственным примером. Целых пять лет длилась его агония, и он все время показывал замечательное мужество. Если когда-нибудь он и позволял себе в чем-нибудь излишества, то теперь он искупил это своим продолжительным мучением. Он вел тщательную запись симптомам своей болезни и разработал самым всесторонним образом вопрос об изменениях глаза во время спинной сухотки. Когда его веки уже не подымались сами, он придерживал их одною рукою, а другою продолжал писать. Затем, когда он уже не мог координировать мускулы руки, чтобы писать, он стал диктовать своей сиделке. Так, не переставая работать, умер на 45-м году жизни Джемс Уокер.
Бедный Уокер страстно любил всевозможные хирургические эксперименты и старался проложить новые пути в этой отрасли медицины. Между нами, успешность его работ в этом направлении вещь спорная, но во всяком случае он и в этой области работал с большим увлечением. Вы знаете Мак-Намару? Он носит длинные волосы и хотел бы, чтобы это объясняли тем, что у него артистическая натура; на самом же деле он носит их, чтобы скрыть недостачу одного уха. Его отрезал у него Уокер, но только, пожалуйста, не говорите Мак-Намаре, что я говорил вам это.
Это случилось таким образом. Уокер занимался в это время изучением лицевых мускулов и пришел к заключению, что паралич их происходит от расстройства кровообращения. У нас в клинике в это время был как раз больной с очень упорным параличом лица, и мы употребляли всевозможные средства для его излечения: мушки, тонические и всякие другие средства, уколы, гальванизм — и все безуспешно. Уокер вбил себе в голову, что если у больного отрезать ухо, то соответствующая часть лица будет более обильно снабжаться кровью и паралич будет излечен. Ему очень скоро удалось добиться согласия пациента на эту операцию.
Ее назначили на вечер. Уокер, конечно, чувствовал, что она носит характер довольно рискованного эксперимента, и не хотел, чтобы о ней много говорили, прежде чем выяснятся результаты. На операции присутствовало человек шесть докторов, между ними я и Мак-Намара. Посреди маленькой комнатки стоял узкий стол, на котором лежала подушка, покрытая клеенкой, и было разостлано шерстяное одеяло, концы которого с обеих сторон спускались почти до полу. Единственным освещением комнаты были две свечи, стоявшие на маленьком столике возле изголовья. Дверь отворилась, и в комнату вошел пациент; одна сторона его лица была гладка и неподвижна, другая же от волнения вся подергивалась мелкой дрожью. Он лег на стол, и на его лицо положили маску с хлороформом, между тем как Уокер при слабом свете свечей возился с своими инструментами. Доктор, хлороформировавший больного, стоял у изголовья, а Мак-Намара стоял сбоку для контроля над ним. Остальные сгруппировались около стола, готовые, если понадобится, оказать помощь.
И вот, когда больной был уже наполовину захлороформирован, с ним сделался один из тех припадков, которыми нередко сопровождается полубессознательное состояние. Он начал брыкаться, метаться по столу и с яростью размахивать обеими руками. Столик, на котором стояли свечи, с грохотом полетел на пол, и комната погрузилась в мрак. Поднялась страшная суматоха: кто поднимал стол, кто отыскивал спички, кто старался успокоить неистовствовавшего пациента, и все это в абсолютной темноте. Наконец, два фельдшера повалили его на стол, к его лицу опять приблизили маску с хлороформом, свечи опять были зажжены и мало-помалу его несвязные полузадушенные крики превратились в чуть слышное хрипение. Его голову положили на подушку и не снимали с него маски с хлороформом во все время операции. Каково же было наше удивление, когда, после того как маску сняли наконец с его лица, мы увидели на подушке окровавленную голову Мак-Намары!
Как это могло случиться? — спросите вы. А очень просто. Когда свечи полетели на пол, фельдшер, производивший хлороформирование пациента, бросился поднимать их. Больной же в это время спустился на пол и залез под стол. Бедный Мак-Намара, ухватившийся за больного, потерял равновесие и упал на стол, а в это время фельдшер, в темноте принявший его за больного, наложил маску с хлороформом на его лицо. Другие помогли ему, и чем больше брыкался и кричал Мак-Намара, тем сильнее накачивали его хлороформом. Уокер, конечно, оказался в очень неприятном положении и рассыпался в извинениях. Он предложил ему сделать искусственное ухо, но Мак-Намара отказался. Что касается того пациента, то мы нашли его спокойно спящим под столом; концы спущенного одеяла закрывали его с обеих сторон от нескромных взоров. На следующий день Уокер прислал Мак-Намаре отрезанное у него ухо в банке со спиртом. Сам Намара скоро забыл о постигшей его неприятности, но жена его приняла дело гораздо ближе к сердцу и долго сердилась на Уокера.
Некоторые утверждают, что продолжительное и глубокое изучение человеческой натуры неизбежно приводит к самым пессимистическим выводам, но я не думаю, чтобы люди, действительно изучившие человеческую натуру, придерживались этого воззрения. Мой собственный опыт убеждает меня в противном. Я был воспитан в мертвящей обстановке духовной семинарии, и тем не менее, после тридцатилетнего тесного общения с людьми в качестве врача, я не могу отказать им в моем уважении. Зло обыкновенно лежит на поверхности человеческой души, но загляните поглубже и вы увидите, сколько добрых и хороших чувств скрывается в глубине ее. Сотни раз приходилось мне иметь дело с людьми, так же неожиданно приговоренными к смерти, как бедный Уокер, или, что еще хуже смерти, к слепоте или полному обезображению. Мужчины и женщины, почти все они проявляли при этом удивительное мужество, а некоторые обнаруживали такое полное забвение своей собственной личности, поглощенные одною мыслью о том, как известие о грозящей им участи отзовется на их близких, что нередко мне казалось, что стоящий передо мной кутила или легкомысленная женщина превращаются на моих глазах в ангелов. Мне случалось также сотни раз присутствовать при последних минутах умирающих всех возрастов, как верующих разных сект, так и неверующих, и ни один из них ни разу не выказал признаков страха, кроме одного бедного мечтательного юноши, всю свою безупречную жизнь проведшего в лоне одной из самых строгих сект. Правда, человек, истощенный тяжелою болезнью, не доступен чувству страха — это могут подтвердить люди, во время припадка морской болезни узнававшие, что корабль идет ко дну. Вот почему я считаю, что мужество, которое проявляет человек, узнав, что болезнь обезобразит его наружность, выше мужества, проявляемого умирающим перед лицом смерти.


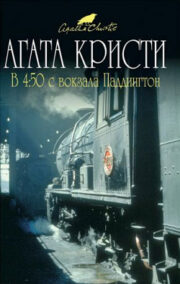


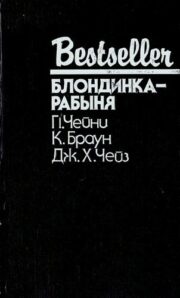
"" отзывы
Отзывы читателей о книге "", автор: Артур Конан Дойл. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "" друзьям в соцсетях.