— Хороший джентльмен, Нора, — проворчал старый Брюстер, глядя вслед удалившемуся полковнику, — но все-таки далеко ему до моего полковника Бинга.
В этот день старику неожиданно сделалось хуже. Даже яркое летнее солнце, целыми потоками врывавшееся в комнату, было не в состоянии отогреть это увядшее тело. Пришедший доктор молча покачал головой. Весь день больной лежал неподвижно, и только слабое дыхание показывало, что в нем еще теплится жизнь. Нора и сержант Макдональд весь день сидели у его кровати, но он, по-видимому, не замечал их присутствия и лежал тихо, с полузакрытыми глазами, положив руки под щеку, как человек, который очень устал.
Они оставили его на минуту одного и сидели в соседней комнате, где Нора приготовляла чай, как вдруг громкий, полный силы, энергии и яростного возбуждения крик прозвучал по всему дому.
— У гвардейцев не хватает пороху! — кричал старик и затем еще раз: — У гвардейцев не хватает пороху!
Сержант вскочил со своего места и бросился в комнату больного; за ним последовала дрожащая Нора. Старик стоял на ногах у своего кресла; его глубокие глаза сверкали, его седые волосы стояли дыбом, вся его фигура дышала возбуждением и гневным вызовом.
— У гвардейцев не хватает пороху, — прогремел он еще раз, — и, клянусь Небом, он будет у них!
Широко взмахнув в воздухе своими длинными руками, он со стоном упал в кресло. Сержант нагнулся над ним, и лицо его омрачилось.
— О, Арчи, Арчи, — простонала испуганная женщина, — как вы думаете, что такое с ним? Сержант отвернулся.
— Я думаю, — сказал он, — что третий гвардейский полк теперь в полном составе.
За грехи отцов
Сдавленный двумя рядами громадных каменных домов, переулок Скудамор, ведущий к Темзе, скудно освещаемый убогим светом расположенных на большом расстоянии друг от друга газовых фонарей, имеет по ночам мрачный и неприветливый вид. Его тротуары узки, а мостовая вымощена крупным булыжником, так что никогда не смолкающий стук колес ломовых телег, проезжающих по переулку, производит впечатление грохота морских волн. Несколько домов старинной архитектуры рассеяны между громадными домами промышленных и торговых фирм. В одном из этих домов на полдороге к Темзе, по левой стороне улицы, живет известный доктор Горас Сельби. В сущности говоря, это несколько неподходящий квартал для такого крупного медицинского светила, но специалист, имеющий европейскую известность, может не стесняться в выборе себе места жительства. К тому же больные, с которыми приходится иметь дело доктору Горасу Сельби, обыкновенно бывают рады всякому обстоятельству, облегчающему им возможность скрыть свою болезнь.
Было всего только десять часов вечера. Тяжелый грохот экипажей на Лондонском мосту превратился теперь в чуть слышный, неясный гул. Шел сильный дождь, и газовые рожки тускло светили сквозь мокрые стекла фонарей, бросая на мостовую круглые пятна желтоватого света. Воздух был наполнен шумом падавшего дождя и потоков воды, вырывавшихся на тротуар из водосточных труб. Во всем переулке была видна только одна человеческая фигура. Это был мужчина, стоявший у дверей квартиры доктора Гораса Сельби.
Он только что позвонил и ждал, когда ему отворят. Свет фонаря у подъезда падал на его мокрый плащ и бледное, нервное, красивое лицо с каким-то особенным, с трудом поддающимся определению выражением, напоминавшим одновременно и испуганную лошадь с расширенными белками глаз, и беспомощное, растерянное лицо плачущего ребенка. Лакей, отворявший дверь, сразу узнал в нем пациента. Этот испуганный взгляд и растерянное лицо были таким обычным явлением в передней доктора Гораса Сельби.
— Дома доктор? — спросил посетитель.
Человек замялся.
— У них гости, сэр. Они не любят, когда их беспокоят не в приемные часы.
— Скажите доктору, что мне непременно нужно его видеть по очень важному, неотложному делу. Вот моя карточка, — и трясущимися руками он стал доставать из бумажника свою карточку.
— Мое имя — сэр Фрэнсис Нортон. Скажите ему, что сэр Фрэнсис Нортон из Дин-Парка хочет непременно его видеть.
— Слушаюсь, сэр. — Лакей взял карточку и сопровождавший ее золотой. — Ваш плащ я повешу здесь, в передней, — сказал он. — Он совсем мокрый. Теперь пожалуйте в кабинет, а я пойду схожу за доктором.
Молодой баронет очутился в большой, высокой комнате, устланной таким толстым и мягким ковром, что звука его шагов совсем не было слышно. Тусклый свет двух газовых рожков, отвернутых только наполовину, и какой-то неопределенный ароматический запах, которыми была насыщена атмосфера комнаты, придавали ей какое-то отдаленное сходство с исповедальней. Он сел в блестящее кожаное кресло, стоявшее у камина, в котором тлели уголья, и окинул комнату мрачным взглядом. Стены ее были уставлены шкафами с толстыми книгами в темных переплетах с вытисненными золотом заглавиями на корешках. Перед ним на высокой, старомодной каминной доске из белого мрамора были разбросаны в беспорядке вата, бинты, мензурки, а также стояли маленькие бутылочки. Как раз против него стояла бутылка с широким горлышком, содержавшая медный купорос, и другая, поуже, в которой лежало что-то похожее на обломки черепка сломанной трубки, и на которой был наклеен красный ярлык с надписью: «ляпис». На каминной доске и на большом столе, стоявшем в комнате, лежали также в большом количестве всевозможные инструменты: термометры, шприцы для подкожных впрыскиваний, бистури и шпатели. На том же столе, направо, находились пять томов написанных доктором Сельби сочинений по его специальности, тогда как налево, на красном медицинском указателе, лежала громадная стеклянная модель человеческого глаза величиной с репу, которая, раскрываясь посередине, обнаруживала заключавшуюся в ней лупу и двойную камеру.
Сэр Фрэнсис Нортон никогда не отличался наблюдательностью, и однако он рассматривал все эти мелочи с величайшим вниманием. Он заметил даже то, что пробка на одной из бутылок с кислотами была вытравлена кислотой и поймал себя на мысли о том, что доктору следовало бы употреблять стеклянные пробки. Крошечные царапины и маленькие пятна на покрытом кожею столе, химические формулы, нацарапанные на ярлыке какой-нибудь склянки — ничто не было настолько незначительным, чтобы ускользнуть от его внимания. Его слух также необычайно обострился. Тяжелое тиканье больших черных часов над камином почти болезненно отдавалось в его ушах. Но несмотря на это, несмотря даже на толстые деревянные стены старинного дома, до него доносились голоса людей, разговаривавших в соседней комнате, а иногда до его слуха долетали даже целые отрывочные фразы из их разговора. «Почему вы отдали взятку?» — ясно расслышал он чей-то голос. «Но что же я мог сделать без козырей?» — возражал на это чей-то другой голос. И еще: «Как я мог ходить с дамы, зная, что туз на руках?» Наконец он услышал скрип двери, затем в передней послышались чьи-то шаги, и странное, смешанное чувство нетерпения и страха охватило его при мысли, что сейчас решится его участь.
Доктор Горас Сельби был высокий, полный мужчина с внушительной осанкой. У него были резко очерченный нос и подбородок и пухлое лицо, — комбинация, гораздо больше гармонировавшая с париком и галстуком времен первых Георгов, чем с коротко подстриженными волосами и черным сюртуком конца XIX века. Его лицо было гладко выбрито, так как его рот был слишком изящно очерчен, чтобы скрывать его под усами, — большой, нервный, чувственный, с необыкновенно симпатичной улыбкой, что вместе с его темными, ласковыми глазами чрезвычайно располагало к нему больных и помогало ему вызывать их на откровенность. Его небольшие мастерски подстриженные бакенбарды и густые волосы были уже тронуты сединой, а крупная величественная фигура уже сама по себе действовала успокаивающе на его пациентов. Уверенные и спокойные манеры в медицине, как и на войне, как бы заключают в себе намек на прежние победы и обещание таковых в будущем. И потому было что-то успокаивающее уже в самом лице доктора Гораса Сельби, так же как и в его больших белых, холеных руках, одну из которых он протянул своему посетителю.
— Мне очень жаль, что я заставил вас ждать, — сказал он баронету. — Но согласитесь, что трудно быть одновременно и любезным хозяином по отношению к своим гостям, и внимательным врачом для своих пациентов. Но теперь я всецело в вашем распоряжении, сэр Фрэнсис. Но, Боже мой, вы совсем продрогли!
— Да, мне холодно.
— Вас так и трясет. Это нехорошо. Это все благодаря ужасной погоде. Может быть, вы выпьете немного вина?
— Нет, благодарю вас. Я действительно чувствую себя не совсем хорошо, но погода тут не при чем. Я страшно взволнован, доктор.
Доктор повернулся к нему в своем кресле и потрепал его рукой по колену, как треплют по шее испуганную лошадь.
— В чем же дело? — спросил он, глядя через плечо на бледное лицо юноши с испуганными глазами.
Два раза молодой человек делал попытку заговорить, но, видимо, не мог решиться. Затем, быстро нагнувшись, он молча засучил штанину и, спустив носок с правой ноги, обнажил ее. Взглянув на его ногу, доктор поморщился.
— Обе ноги? — спросил он.
— Нет, только одна.
— И вдруг?
— Да, сегодня утром.
— Гм! — Доктор выпятил губы и провел пальцами по подбородку. — Вы знаете причину? — быстро спросил он.
— Нет.
Лицо доктора приняло строгое выражение.
— Я думаю, что мне не нужно напоминать вам, что только полная откровенность…
Пациент вскочил со стула.
— Уверяю вас, доктор, — воскликнул он, — что мне не в чем упрекать себя. Неужели вы думаете, что я пришел сюда для того, чтобы обманывать вас? Клянусь вам, что мне не в чем раскаиваться!
Было что-то одновременно и смешное и трагическое в этой жалкой фигуре, стоявшей посреди комнаты с засученной до колена штаниной и выражением ужаса в чертах лица. Взрыв смеха долетел до них из комнаты, где сидели игроки. Несколько мгновений доктор и пациент молча смотрели друг на друга.



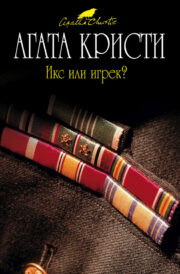


"" отзывы
Отзывы читателей о книге "", автор: Артур Конан Дойл. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "" друзьям в соцсетях.