— Решительно ничего. — Итак, мы вошли, в сопровождении этой зловещей фигуры.
Оказалось, впрочем, что он был человек с тактом и с любезными манерами.
— Конечно, доктор Монро, — сказал он, — вы слишком хорошо известны в городе, чтобы кому-нибудь могло прийти в голову заподозрить вас. Но дело в том, что сегодня утром получено анонимное письмо, в котором говорится, что молодой человек умер вчера, погребен сегодня в неурочный час, при подозрительных обстоятельствах.
— Он умер третьего дня. Погребен в восемь часов утра, — пояснил я; а затем рассказал всю историю с самого начала. Агент слушал внимательно, и сделал две-три отметки в своей книжке.
— Кто подписал удостоверение? — спросил он.
— Я.
Он слегка приподнял брови.
— Значит, нет никого, кто мог бы подтвердить ваше объяснение? — сказал он.
— О, есть: доктор Портер видел его вечером накануне смерти. Ему известен весь ход болезни.
Агент захлопнул свою записную книжку.
— Это все, доктор Монро, — сказал он. — Конечно, я обязан посетить доктора Портера, этого требует форма, но если его мнение сходится с вашим, то мне останется только извиниться в моем посещении.
— Тут есть еще одна вещь, мистер агент, сэр, — вмешался Уайтголл пылко. — Я не богатый человек, сэр, я только шкипер вооруженного транспорта на половинной пенсии, — но, сэр, я насыпал бы эту шапку долларами тому, кто узнал бы имя мерзавца, написавшего анонимное письмо, сэр. Да, — сэр, вот этим делом вам стоило бы заняться.
Так кончилась эта скверная история, Берти. Но от каких пустяков зависит наша судьба! Не загляни ко мне Портер в этот вечер, по всей вероятности труп был бы отрыт для исследований. В нем обнаружили бы присутствие хлорала; со смертью молодого человека действительно были связаны известные денежные интересы — опытный крючкотвор может много сделать из такой комбинации. И во всяком случае, малейшее подозрение развеяло бы мою практику.
А вы, действительно предпринимаете путешествие? Ну, я не буду писать до вашего возвращения, а тогда, надеюсь, удастся сообщить что-нибудь более веселое.
Письмо четырнадцатое
Оклей-Вилла I. Бирчеспуль, 4 ноября 1884 г.
Дорогой друг! Во всех ваших Штатах не найдется человека счастливее меня. Что бы вы думали, имеется теперь в моем кабинете? Письменный стол? Книжный шкаф? Но вы уже угадали мой секрет. Она сидит в моем большом кресле, и она — самая лучшая, самая милая, самая кроткая женщина в Англии.
Да, я женился шесть месяцев тому назад — по календарю шесть, хотя они показались мне неделями. Конечно я должен был послать вам карточки, но я знал, что вы еще не вернулись из путешествия.
Ну, я уверен, что вы, с проницательностью давно женатого человека, уже угадали, кто моя жена. Мы, положительно, в силу какого-то непреодолимого инстинкта, знаем больше о нашем будущем, чем нам самим кажется. Так, когда я впервые увидел Винни Лафорс, в вагоне, прежде чем я заговорил с ней или узнал ее имя, я почувствовал к ней какую-то непостижимую симпатию и участие. Случалось ли что-нибудь подобное в вашей жизни? Весьма естественно, что смерть бедного Фрэда Лафорса сблизила меня с его семьей. Я часто навещал их, и мы часто предпринимали вместе маленькие экскурсии. Затем приехала ко мне погостить матушка: ее присутствие дало мне возможность отплатить гостеприимством за гостеприимство Лафорс, и мы сблизились еще теснее.
Я никогда не напоминал им о нашей встрече. Но однажды вечером зашел разговор о ясновидении, и миссис Лафорс выразила решительное сомнение в существовании такой способности. Я попросил у нее кольцо и, приложив его к своему лбу, заявил, что вижу ее прошлое.
— Я вижу вас в железнодорожном вагоне, — говорил я. — На вас шляпка с красным пером. Мисс Лафорс одета в темное. Подле вас какой-то молодой человек. Он такой грубиян, что называет вашу дочь Винни, не будучи даже…
— О, мама! — воскликнула она. — Разумеется, это он! Его лицо все время казалось мне знакомым, но я не могла вспомнить, где мы встречались…
Наконец наступило время, когда они должны были уехать из Бирчеспуля, и мы с матушкой зашли к ним накануне отъезда вечером проститься. Винни и я остались на минуту вдвоем.
— Когда же вы думаете вернуться в Бирчеспуль? — спросил я.
— Мама сама не знает.
— Вернитесь поскорей и будьте моей женой.
Весь вечер я обдумывал, как бы мне получше выразить мои чувства и как прекрасно можно их выразить, — и вот что я брякнул в результате! Но может быть чувство, наполнявшее мое сердце, сумело обнаружиться и в этих неловких словах. Судьей могла быть только она, и она была этого мнения.
Обычное время обручения — полгода, но мы сократили его до четырех месяцев. Мой доход к этому времени достиг двухсот семидесяти фунтов, у Винни оказалось сто фунтов в год. Это обстоятельство ни на йоту не увеличило моей любви к ней, но было бы нелепо говорить, что я был недоволен им.
Бедный Уайтголл явился утром в день свадьбы. Он шатался под тяжестью прекрасного японского туалетного прибора. Я пригласил его в церковь, и старик блистал в белом жилете и шелковом галстуке.
— Вы меня простите, доктор Монро, сэр, — сказал он, — если я скажу, что вы — счастливый малый. Вы только руку засунули и поймали угря, — это и слепой увидит. А я нырял три раза и всякий раз вытаскивал змею. Будь при мне хорошая женщина, доктор Монро, сэр, я не был бы теперь никуда не годным шкипером вооруженного транспорта на половинной пенсии.
— Я думал, что вы были женаты два раза, капитан.
— Три раза, сэр. Двух схоронил. Третья живет в Брюсселе. Да, я буду в церкви, доктор Монро, сэр; и вы можете быть уверены, что там не будет никого, кто бы искреннее моего желал вам счастья.
Мы провели несколько недель на острове Мэн, а затем вернулись на Оклей-Виллу; мисс Вильямc ждала нас с целой серией забавных легенд о толпах пациентов, загромождавших улицу в мое отсутствие. Моя практика действительно возросла, и в течение шести последних месяцев, я, не будучи завален работой, имел достаточно дела. Мои пациенты — бедный народ и я работаю усердно за малую плату; но я продолжаю заниматься, посещать госпитали, приобретать знания, чтобы быть готовым и для более широкого поприща, если оно откроется.
С год тому назад я получил известие о Колингворте от Смитона, нашего товарища по университету, который навестил его проездом через Бреджильд. Сведения были не особенно благоприятными. Практика Колингворта значительно упала. Без сомнения, публика привыкла к его эксцентричности, и они перестали импонировать ей.
Кроме этого упадка практики, я с сожалением узнал об усилившихся проявлениях той странной подозрительности, которая всегда казалась мне самой болезненной чертой Колингворта. По словам Смитона, она приняла теперь форму убеждения, что кто-то умышляет отравить его медью, которое заставляет его принимать самые экстравагантные меры предосторожности. За обедом он сидит, окруженный целой лабораторией химических приборов, реторт, склянок, исследуя образчики каждого кушанья.
Не думал я, что мне придется еще раз увидеть Колингворта, однако судьба свела нас. Однажды, когда я собирался к больным, мальчик подал мне записку. У меня просто дух захватило, когда я увидал знакомый почерк и убедился, что Колингворт в Бирчеспуле. Я позвал Винни, и мы прочли записку вместе.
«Дорогой Монро, — было в ней написано. — Джэмс остановился здесь на несколько дней. Мы уезжаем из Англии. Он был бы рад, в память старых дней, поболтать с вами перед отъездом.
Преданная вам
Гетти Колингворт»
Я не хотел идти, но Винни стояла за мир и прощение. Полчаса спустя я входил к нему с очень смешанным чувством, но в общем дружественным. Я старался уверить себя, что его поступок со мной был патологический случай, — результат расстроенного мозга. Если бы сумасшедший ударил меня, не мог же бы я сердиться на него.
Если Колингворт все еще сохранял злобу против меня, то скрывал ее удивительно. Но я по опыту знал, что эта веселая, открытая манера громогласного Джон Булля может скрывать многое. Жена его была более откровенна; и я мог прочесть в ее сжатых губах и холодных серых глазах, что она не забыла о старой ссоре. Колингворт мало изменился и казался таким же сангвиническим и оживленным, как всегда. Он сообщил мне, что уезжает в Южную Америку.
— Вы, стало быть, совсем покидаете Бреджильд? — спросил я.
— Провинциальная дыра, дружище! Что за радость в деревенской практике с какими-нибудь несчастными тремя тысячами фунтов в год для человека, которому нужен простор. Я теперь принялся за глаза, дружище. Человек жалеет полкроны на лечение груди или горла, но за глаз отдаст последний доллар. Есть деньги и в ушах, но глаз — золотой рудник.
— Как! — сказал я. — В Южной Америке?
— Именно в Южной Америке. — крикнул он, расхаживая быстрыми шагами по комнате. — Слушайте, парень! Вот вам целый материк, от экватора до полярных льдов, и на нем ни одного человека, который мог бы вылечить астигматизм. Что они знают о современной хирургии глаза? Здесь, в Англии, провинция ничего не знает о ней, а что же говорить о Бразилии. Вы только подумайте: целый материк усеян миллионерами, поджидающими окулиста. А, Монро, что? Черт побери, когда я возвращусь, то куплю весь Бреджильд и подарю его на водку лакею.
— Вы думаете основаться в каком-нибудь большом городе?
— В городе? На кой мне черт город, я хочу выжать весь материк! Я буду обрабатывать город за городом. Я посылаю агента в ближайший — оповестить, что я буду. «Здесь исцеление, — говорит он, — незачем ехать в Европу. Сама Европа является к вам. Косоглазие, бельмы — словом, все, что вам угодно; для великого синьора Колингворта нет затруднений». И вот они сбегаются толпами, а затем являюсь я и собираю денежки. Вот мой багаж! — Он указал на два больших чемодана в углу. — Это стекла, дружище, выпуклые и вогнутые, сотни стекол. Я осматриваю глаз, поправляю его тут же — и кончен бал. Затем нанимаю пароход и возвращаюсь домой, если не предпочту купить какое-нибудь из тамошних государств.




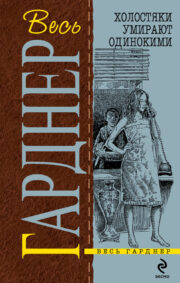
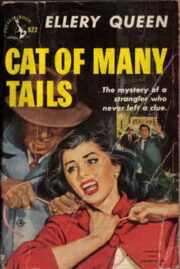
"" отзывы
Отзывы читателей о книге "", автор: Артур Конан Дойл. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "" друзьям в соцсетях.