У Селии не было ни нежности, ни сочувствия. Все это она растратила, промотала впустую. В этом — она сама это понимала — и состояла ее глупость. Она сама была слишком несчастлива, чтобы жалеть других. Еще одна жесткая складка у рта указывала на то, как она настрадалась. Ум ее работал быстро — она мгновенно распознала, что и со мной похожее случалось. Мы были с ней на равных. У нее не было жалости к себе, и она не тратила жалости на меня. Для нее страдания, которые я пережил, лишь объясняли, как я догадался о том, о чем, казалось, догадаться было нельзя.
Она была, и в тот момент я это понял, младенцем. Реальным миром для нее был мир, который ее окружал. Она сама намеренно ушла в этот ребячий мир, пытаясь найти прибежище от жестокостей мира настоящего.
И занятая ею позиция была потрясающим стимулом для меня. Это было именно то, чего мне не хватало в последние десять лет. Это был призыв к действию.
И я начал действовать. Единственное, чего я опасался, это оставить ее наедине с собой. Я и не оставил ее. Я присосался к ней, как пиявка. Она пошла со мной в город и была при этом весьма любезна. Здравого смысла в ней было предостаточно. Она прекрасно понимала, что по крайней мере сейчас ей не удастся сделать задуманное. Она от этого не отказалась и совсем — лишь отложила на потом. И я понял это, хотя она и слова не сказала.
В подробности вдаваться я не стану: я не хронику пишу. Нет мне нужды описывать милый испанский городок или сообщать подробности того, что мы ели в ее гостинице, или того, как я втайне договорился, чтобы вещи из моей гостиницы были перевезены в ту, где остановилась она.
Нет, я веду речь только о главном. Я знал, что должен быть возле нее — пока что-нибудь не случится, пока она не сломается и не сдастся так или иначе.
Как я и говорю, я все время был с ней, под боком. Когда она отправилась к себе в комнату, я сказал:
— Даю вам десять минут, а потом вхожу.
Я не рисковал давать ей больше времени. Дело в том, что комната ее была на пятом этаже и она могла пренебречь «предупредительным отношением к другим», воспитанным в ней, и поставить управляющего гостиницы в крайне неловкое положение, выпрыгнув из окна, вместо того, чтобы броситься с обрыва.
Итак, я вошел к ней в комнату. Она была в постели — сидела, ее светлые, золотистые волосы были зачесаны назад. Не думаю, чтобы она усмотрела что-то странное в том, как мы себя вели. Я-то уж точно ничего не усматривал. Но не знаю, что думали служащие гостиницы. Если они знали, что я вошел к ней в комнату в десять вечера, а вышел в семь утра, то, полагаю, они пришли к одному — единственному заключению. Но меня это не волновало.
Я спасал жизнь, и репутация меня не заботила.
Я присел на кровать, и мы завели разговор.
Мы проговорили всю ночь.
Странная ночь — такой в моей жизни еще не было.
Я не говорил с ней о ее бедах. Мы начали с самого начала — с лиловых ирисов на обоях, с овечек на лугу, с той долины, что была за станцией, где росли примулы…
Вскоре говорила уже она, а не я. Я перестал для нее существовать, а стал как бы своего рода человеческим записывающим аппаратом, в который нужно было что-то наговаривать.
Она говорила так, как говоришь наедине с самим собой — или с Богом. Без жара, как вы понимаете, и эмоций. Просто воспоминания, переходившие от одного эпизода к другому, с предыдущим не связанному. Как если бы она воздвигала здание жизни — своего рода мосток, сплетенный из разных важных случаев.
Когда задумаешься над этим, понимаешь, насколько бывает странным то, о чем мы предпочитаем вспоминать. Отбор наверняка какой-то делается, даже если и подсознательно. Посмотрите мысленно назад, загляните в свое детство, возьмите любой год. Вы припомните, наверное, пять-шесть случаев. Скорее всего — не особенно важных. Но почему тогда вы вспомнили именно о них, именно об этих случаях — из всех тех, что приключились с вами в те триста шестьдесят пять дней? Некоторые из них в то время даже не значили для вас многого. И все же удержались в памяти. И дошли — вместе с вами — до сего дня.
Именно с той ночи, как я уже говорил, я увидел Селию изнутри. Я могу писать о ней, как я сказал, с позиции Всевышнего… Постараюсь писать так.
Она рассказала мне обо всем — о том, что имело значение и что не имело. Она не пыталась придать своему рассказу форму связного повествования.
А я хотел как раз этого! Мне казалось, я уловил ту нить, которой сама она не видела.
Было семь утра, когда я ушел от нее. Она повернулась на бок и уснула, как дитя… Опасность миновала.
Словно бы тяжкий груз свалился с ее плеч и лег на мои. Она была вне опасности…
Чуть позже тем утром я проводил ее на пароход и простился.
В тот момент это и случилось. То, я имею в виду, что, как мне кажется, и есть самое главное…
Может быть, я не прав… Может быть, это был всего-навсего обычный тривиальный случай…
Как бы то ни было, сейчас я об этом писать не стану.
До тех пор не стану, пока не попробую стать Богом и либо провалюсь, либо преуспею в своих попытках.
Попытался запечатлеть ее на холсте, пользуясь этим новым, незнакомым мне средством выражения…
Словами…
Нанизанными одно на другое словами…
Ни кисточек, ни тюбиков с красками — ничего такого, что давно мне дорого и знакомо.
Портрет в четырех измерениях — поскольку в вашем, Мэри, ремесле есть и время, и пространство…
КНИГА ВТОРАЯ
ХОЛСТ
«Готовьте холст. Есть сюжет»
Глава первая
Дома
1.
Селия лежала в кроватке и разглядывала лиловые ирисы на стенах детской. Ей было хорошо и хотелось спать.
Кроватка была отгорожена ширмой. Чтобы не бил свет от няниной лампы. А за ширмой — невидимая Селии — сидела и читала Библию няня. Лампа у нее была особая — медная, пузатая, с абажуром из розового фарфора. От нее никогда не пахло, поскольку Сьюзен, горничная, была очень старательная. Сьюзен была хорошая, — Селия знала это, — хотя и водился за ней грешок: она иногда уж очень начинала усердствовать. Когда она усердствовала, то почти всегда сбивала какую-нибудь вещицу. Она была большой крупной девушкой с локтями цвета сырой говядины. Селия смутно предполагала, что, наверное, от этого и пошло загадочное выражение «протертые в локтях».
Слышался легкий шепот. Няня, читая Библию, бормотала. Селию это убаюкивало. Веки ее сомкнулись…
Открылась дверь, и вошла Сьюзен с подносом. Она пробовала передвигаться бесшумно, но мешали скрипучие башмаки.
Она сказала, понизив голос:
— Извините, сестрица, что я задержалась с ужином.
А няня только и произнесла в ответ:
— Тише, она уснула.
— Упаси Боже мне разбудить ее, — Сьюзен, пыхтя, заглянула за ширму.
— Ну не папочка! Моя племяшка и вполовину не такая смышленая.
Повернувшись, Сьюзен наткнулась на столик. Ложка брякнулась на пол.
Няня мягко заметила:
— Постарайся не шуметь так, Сьюзен, девочка.
Сьюзен сказала огорченно:
— Ей богу, не хотела этого.
И вышла из комнаты на цыпочках, отчего башмаки ее скрипели еще больше.
— Няня, — осторожно позвала Селия.
— Да, детка, что случилось?
— Я не сплю, няня.
Няня сделала вид, что намека не поняла. Она просто сказала:
— Не спишь, милая.
Пауза.
— Няня?
— Да, детка.
— А тебе вкусно, няня?
— Очень.
— А что ты ешь?
— Вареную рыбу и пирог с патокой.
— О, — Селия захлебнулась от восторга.
Пауза. А потом няня выглянула из-за ширмы. Маленькая седая старушка в батистовом чепце, завязанном под подбородком. Она держала вилку, на кончике которой был крохотный кусочек пирога.
— А теперь будь хорошей девочкой и давай спи. — У няни был строгий голос.
— О, да, — горячо проговорила Селия.
Верх блаженства! Кусочек пирога уже во рту. Невероятная вкуснотища.
Няня опять исчезла за ширмой. Селия повернулась на бок и легла калачиком. Лиловые ирисы плясали в свете лампы. Сладость разливалась от пирога с патокой. Убаюкивающее шуршанье Кого-то в Комнате. Полнейший покой на душе.
Селия засыпает…
2.
День рождения — Селии три года. В саду устроили чай, с эклерами. Ей разрешили взять всего один, а Сирилу — три. Сирил — ее брат. Большой мальчик — ему четырнадцать. Он хотел взять еще, но мама сказала:
— Хватит, Сирил.
Последовал обычный в таких случаях разговор. Сирил затянул свое вечное:
— Почему?
Маленький красный паучок, в микроскоп не разглядеть, пробежал по белой скатерти.
— Посмотри, — сказала мать, — это к счастью. Он бежит к Селии, потому что у нее день рождения. Значит, она будет очень счастливой.
Селия разволновалась и заважничала. Дотошный ум Сирила перешел к другому.
— А почему пауки — к счастью, мам?
Наконец Сирил ушел, и Селия осталась с матерью. Наедине. Мама улыбалась ей с того конца стола — улыбалась хорошей улыбкой, а не так, как улыбаются забавным малышам.
— Мамочка, — попросила Селия, — расскажи мне что-нибудь.
Она обожала мамины рассказы — они были совсем не такими, как у других людей. Другие — если их попросишь, — начинали рассказывать про Золушку, про Джека, и Гороховый стручок, про Красную Шапочку. Няня рассказывала про Иосифа и его братьев и про Моисея в камышах. (Камыши всегда казались Селии какими-то деревянными сараями, в которых кишели мыши). Иногда она рассказывала про приключения детей капитана Стреттона в Индии. А вот мамочка!

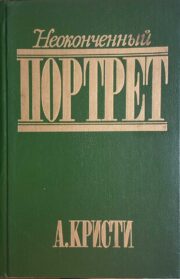



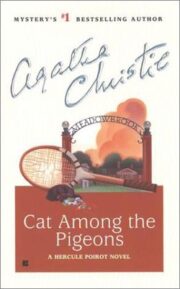
"Неоконченный портрет" отзывы
Отзывы читателей о книге "Неоконченный портрет", автор: Агата Кристи. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Неоконченный портрет" друзьям в соцсетях.