Сентиментальные порывы Селии могут быть полезны и поучительны и для современных мужчин, хотя нам зачастую кажется, что эмоции наших подруг слишком упростились. Тем не менее остается вечной загадкой нечто, что привлекает в женщине мужчину и наоборот. Сентиментальная и искренняя Селия вносит свою посильную лепту в разгадывание этой великой тайны бытия: «Селии же он нравился больше всего не тогда, когда глубокомысленно рассуждал об этике или о миссис Эдди, а когда, запрокинув голову, хохотал».
А чем же прельстил разумную и рассудительную Селию напористый Дермот? Да просто тем, что сумел затронуть ее совсем еще неразбуженные чувства. Но чувства не столько типично женские, сколько обычные, человеческие. Селия всегда была одинока: у нее никогда не было близкого человека, кроме матери. Напор Дермота, его желание соединиться с ней как можно скорее она приняла за потребность иметь рядом близкого человека…
Уже много времени спустя она поймет, что «Дермот — товарищ по играм любим был ею куда больше Дермота-любовника…»
Романтизм и сентиментальность Селии вызывают у рассказчика, умудренного опытом, откровенную иронию. Можно предположить, что именно так, сурово, оценивала пережившая развод Агата Кристи девичьи представления Агаты Миллер, влюбившейся в бравого вояку Арчибальда Кристи.
Право же, писательница излишне требовательна и к своей героине, и к себе самой. Откуда было Агате-Селии знать, что и с ней может приключиться нечто подобное тому, о чем писали в грустных реалистических романах? Ведь до сих пор все было прекрасно, а она искренне и истово верила в любовь.
Что ж тут удивляться. Кто из нас в юности не верил в свою счастливую звезду?
Но быт, повседневность, словно голодное чудовище, слишком быстро пожирает неожиданность и восторг первой любви.
В «Неоконченном портрете» немало мудрых мыслей: «Не в том ли состоит трагедия замужества, что женщине хочется быть другом, а мужчине от этого скучно?»
Все попытки Селии стать Дермоту другом тщетны. Они оказываются совершенно чужими друг другу людьми. Но все равно уход Дермота к другой женщине становится одной из главных причин ее психологического краха. Ей, по воспитанию типичной викторианской барышне, труднее всего дается «наука расставания». После развода она окончательно теряет доверие к мужчинам, страшится их.
Правда, в финальных замечаниях рассказчика звучат оптимистические нотки: «И я твердо убежден, что Селия вернулась к людям, чтобы начать жизнь заново…»
Да Бог с ней, с Селией…
Жизнь же самой Агаты Кристи после пережитой семейной драмы исполнена счастья, покоя, успеха и благополучия. Она встречает Макса Мэллоуна, востоковеда и археолога, который вскоре становится ее мужем. Надо сказать, когда он ей сделал предложение, она колебалась — все-таки он был на пятнадцать лет моложе. Но союз их был прочен и безмятежен. По свидетельству очевидцев, спорили они только о том, по какой дороге ехать на машине и сколько это займет времени.
Не лишне будет сказать, что Кристи наделяет свою Селию и творческим даром «писать о мире воображаемом, а не реальном». Если считать, что и свое дарование она оценивала так, то, пожалуй, была к себе слишком строга.
«Неоконченный портрет» — роман о живых людях, симпатичных, забавных и пугающих. Их нет давно на земле, ушло их время… Но их стиль жизни и переживания интересны нам не только потому, что это часть беллетризованной автобиографии такой знаменитости, как Агата Кристи, но и потому, что их опыт, как и любой опыт человечества, для нас ценен и полезен.
Г. Анджапаридзе
Неоконченный портрет
РОМАН
ПРЕДИСЛОВИЕ
Дорогая Мэри, посылаю вам рукопись, так как не знаю, что с ней делать. Вообще-то говоря, я, наверное, хочу, чтобы она увидела свет. А кто не хочет? Допускаю, что люди гениальные хранят свои шедевры в мастерской, никогда их не выставляя. Я не такой, а потом я ведь и не гений — просто мистер Ларраби, молодой, подающий надежды портретист.
Уж вам-то, дорогая моя, лучше всех известно, каково быть оторванным от любимого занятия, с которым неплохо справлялся, потому что оно было любимым. Потому-то мы и подружились. И вы знаете толк в литературных делах, а я не знаю.
Если прочитаете эту рукопись, то поймете, что я воспользовался советом Барджа. Припоминаете? Он говорил: «Подыщите для себя новые средства самовыражения». Перед вами портрет и, должно быть, чертовски скверный, потому как мое средство самовыражения мне еще плохо ведомо. Если вы скажете, что он никуда не годится, поверю вам на слово, но если вы сочтете, что он, хотя бы в самой малой степени, обладает той выразительной формой, которая, как мы оба думаем, и есть основа искусства, ну, тогда не пойму, но вы можете их поменять. Кто возразит? Только не Майкл. Что до Дермота, то он себя никогда бы не узнал! Не так он устроен. Как бы то ни было, сама Селия говорила, что история ее — история самая заурядная. Такое могло случиться с кем угодно. В сущности часто и случается. Вовсе не ее история интересовала меня. С самого начала меня интересовала сама Селия. Да, сама Селия…
Видите ли, мне хотелось бы навсегда припечатать ее маслом к холсту, но так как об этом не может быть и речи, я попробовал добраться до нее иначе. Но это область мне незнакомая: все эти слова и предложения, запятые и точки — не мое ремесло. Вы, наверное, скажете, смею думать, que c’a se voit[1].
Я, понимаете, смотрел на нее с двух позиций. Во-первых, взглядом своим собственным. А во-вторых, в силу необычайных обстоятельств, случившихся в течение двадцати четырех часов, мне удалось иногда проникать сквозь ее оболочку и видеть ее как бы изнутри. И одно с другим не во всем совпало. Именно это и терзает меня и завораживает! Хотелось бы быть Богом и знать истину.
Но писатель может быть Богом по отношению к своим созданиям. Они в его власти, и он может делать с ними все, что пожелает, — так ему, во всяком случае, кажется. Но творения, бывает, преподносят сюрпризы. Интересно, неужели и Бог настоящий сталкивается с подобным. Да, интересно…
Итак, дорогая моя, не буду больше отвлекаться. Сделайте для меня то, что сможете.
Всегда ваш
Дж. Л.
КНИГА ПЕРВАЯ
ОСТРОВ
Глава первая
Женщина в парке
Бывает у вас такое ощущение, когда вроде бы и знаешь что-то очень хорошо и в то же время никак не можешь припомнить?
Ощущение это у меня было все то время, что я шел вниз по извилистой дороге к городу. Оно возникло, когда я уже начал спускаться с площадки, что в парке виллы нависает над морем. И с каждым шагом становилось сильнее и неотступнее. А когда я дошел до того места, где пальмовая аллея сбегает к морю, пришлось остановиться. Я понял: или сейчас, или никогда. То неясное, что таилось в подсознании, где-то в самых глубинах моего мозга, мне надлежало вытащить на свет, исследовать, изучить и закрепить, зная, что оно уже никуда не уйдет. Я должен это схватить — иначе будет поздно.
И я поступил так, как всегда поступают, когда пытаются что-то вспомнить. Я мысленно начал восстанавливать в памяти все, что было.
Путь из города — пыль и солнце, бившее мне в спину. Там — ничего.
В парке виллы — прохлада и свежесть, высоченные кипарисы, черные на фоне неба. Тропинка, протоптанная в траве и ведущая к площадке, где стоит скамейка, смотрящая прямо на море. Удивление и легкая досада, возникшие при виде женщины, которая уже заняла скамейку.
На какое-то мгновение я почувствовал себя неплохо. Она повернулась и посмотрела на меня. Англичанка. Я почувствовал, что должен что-то сказать — какую-нибудь фразу, чтобы потом можно было уйти.
— Прекрасный отсюда вид.
Именно это я и сказал — обычную банальность. Женщина ответила теми словами и таким тоном, какие и следует ожидать от женщины из хорошей семьи.
— Восхитительный, — сказала она. — И такой прекрасный день.
— Вот только далековато от города.
Она согласилась, сказав, что путь и в самом деле долгий и пыльный.
На этом все и кончилось. Обычный обмен банальными любезностями между двумя англичанами, которые оказались за границей, которые никогда прежде не встречались и вряд ли встретятся вновь. Я повернулся, обошел виллу — кажется, дважды, — восхищаясь оранжевым барбарисом (или как он там еще называется?), и направился обратно в город.
Вот, собственно, и все, ничего другого не было, — и все-таки было что-то еще. Возникло это чувство: что-то ты очень хорошо знаешь, но никак не можешь припомнить.
Может, было что-то в ее манерах? Нет, манеры ее были обычными и приятными. Она вела себя и выглядела так, как вели бы себя девяносто девять женщин из ста.
Вот разве что — да, именно — она не взглянула на мои руки.
Ну и ну! Что за ерунду я написал. Сам поражаюсь. Полнейшая бессмыслица. А напиши я по-другому, не сказал бы того, что хотел сказать.
Она не взглянула на мои руки. А я, видите ли, привык к тому, что женщины смотрят на мои руки. Женщины — они такие шустрые. И они так добросердечны, что я уже привык к тому выражению, которое появляется на их лицах, — да будут они благословенны и черт бы их побрал. Сочувствие, деликатность и решимость никак не показать того, что они заметили. И отношение их сразу же меняется — появляется нежность.
Но эта женщина не увидела или не заметила.
И я начал вспоминать ее подробнее. Странная вещь — в тот момент, когда я от нее отвернулся, я бы ни за что не смог описать ее внешность. Я бы сказал только, что она светлая и что ей примерно тридцать с чем-то, — и все. Но пока я спускался в город, ее образ словно бы увеличивался в размерах и рос как если бы проступало постепенно изображение на фотографической пластине, которую вы проявляете в темном подвале. (Это одно из самых ранних моих воспоминаний — о том, как в подвале нашего дома мы проявляли с отцом негативы).

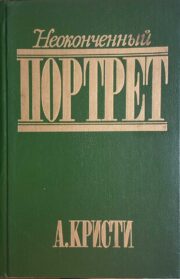


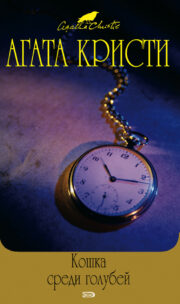

"Неоконченный портрет" отзывы
Отзывы читателей о книге "Неоконченный портрет", автор: Агата Кристи. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Неоконченный портрет" друзьям в соцсетях.