Она почти насильно заставила себя положить его назад в шкатулку и резко захлопнула крышку. Завтра утром она скажет Джорджу.
Спала она плохо. Под тяжелыми складками москитной сетки было ужасно душно. Пульсирующая темнота вокруг то и дело оживала писком москитов, которых она уже научилась не бояться. Дайдра проснулась бледная и разбитая. Невозможно начинать разговор в такую рань!
Все утро она пролежала, отдыхая, в этой маленькой тесной комнатушке. Наступившее время ленча привело ее в смятение. Когда они пили кофе, Джордж Кроузер предложил ей съездить с ним в Матопос.
– У нас еще полно времени, если сейчас же выедем.
Дайдра покачала головой, пожаловавшись на мигрень. «Все складывается само собой, – подумала она про себя. – Я не могу решать это дело наспех. В конце концов, днем больше, днем меньше, какая разница? Я объясню Тиму».
Она помахала на прощание Кроузеру, с грохотом отъезжавшему на побитом «Форде». Затем, глянув на часы, медленно направилась к месту встречи.
Кафе в этот час опустело. Они уселись за столик и заказали себе неизменного чаю, которым в Южной Африке утоляют жажду в любое время дня и ночи. Оба не произнесли ни слова, пока официантка не подала им чашки и не скрылась в свою цитадель за розовой занавеской. Тогда Дайдра подняла глаза и вздрогнула, встретив его взгляд, полный пристального внимания.
– Дайдра, ты сказала ему?
Она покачала головой и облизала сухие губы, пытаясь подобрать слова, которые не желали находиться.
– Почему нет?
– Не нашла подходящего случая, не было времени.
Она и сама услышала, как неубедительно и неловко прозвучал ее ответ.
– Не то. Все не то. Дело в чем-то другом. Мне показалось еще вчера. Сегодня я это вижу. Что такое, Дайдра?
Она молча покачала головой.
– Есть какая-то причина, по которой ты не хочешь уходить от Джорджа Кроузера, по которой ты не хочешь вернуться ко мне. В чем она?
Тим был прав. Она поняла, когда он сказал об этом, поняла с внезапным жгучим стыдом, но ясно, без тени сомнения поняла. А он все смотрел на нее испытующим взглядом.
– Дело ведь не в том, что ты любишь его! Нет. Здесь нечто другое.
«Вот сейчас ему станет ясно! – подумала она. – О, не дай бог!»
Он вдруг побледнел.
– Дайдра – неужели… неужели ты ждешь ребенка?
Эта спасительная мысль, которую он сам ей подсказал, вспышкой зажглась у нее в голове. Чудесный выход! Медленно, словно против собственной воли, она наклонила голову.
Она услышала его учащенное дыхание, затем его голос, охрипший и громкий:
– Это… меняет дело. Я не знал. Нам придется найти другой выход. – Он перегнулся через стол и взял ее за обе руки. – Дайдра, дорогая моя, никогда не думай, даже не думай никогда, что ты в чем-то виновата. Что бы ни случилось, помни об этом. Мне следовало сразу объявиться, когда я вернулся в Англию. Я побоялся, и теперь я сам должен сделать что возможно, чтобы поправить дело. Слышишь? Что бы ни случилось, не переживай, милая. Тут нет твоей вины.
Он по очереди прижался губами к обеим ее рукам. Потом она сидела в одиночестве, глядя на нетронутый чай. И, как ни странно, перед ее глазами стояло лишь одно – празднично расцвеченная надпись на выбеленной стене. Слова словно срывались оттуда, вонзаясь в нее. «Какая польза человеку…» Она поднялась, расплатилась за чай и вышла.
Джордж Кроузер по возвращении домой был встречен известием, что жена просила ее не беспокоить. У нее сильнейшая мигрень, заявила служанка.
В девять часов на следующее утро он вошел в ее спальню. Лицо его было серьезно. Дайдра сидела в постели. Она выглядела бледной и осунувшейся, но глаза ее горели.
– Джордж, мне надо сказать тебе кое-что, нечто ужасное…
Он резко перебил ее:
– Значит, ты уже слышала. Я опасался, что это может тебя расстроить.
– Расстроить меня?
– Ну да. Ты ведь вчера разговаривала с этим беднягой.
Он заметил, как медленно прижалась к сердцу ее рука, как затрепетали ее веки. Затем она тихо и торопливо произнесла каким-то пугающим голосом:
– Я ни о чем не слышала. Скажи мне скорее.
– Я подумал…
– Говори же!
– Там, на табачной плантации. Тот парень застрелился. Похоже, его сильно покалечила война, с нервами было неладно. Никакой другой причины не видно.
– Он убил себя – под тем темным навесом, где висел табак. – В ее голосе звучала убежденность, взгляд стал тусклым, как у лунатика: перед ее глазами встало видение – в пахучей душной темноте распростертое тело с револьвером в руке.
– И ведь надо же! Именно там тебе вчера стало дурно. Странное дело!
Дайдра не отвечала. Ей привиделась другая картина – столик с чайным прибором и женщина, склонившая голову перед ложью.
– Да, война за многое в ответе, – проговорил Кроузер, потянувшись за спичками, и, старательно попыхивая, принялся раскуривать трубку.
Крик жены застал его врасплох:
– Ах! Не надо, не надо! Я не могу переносить этого запаха!
Он с мягким изумлением уставился на нее.
– Дорогая моя девочка, нельзя так нервничать. В конце концов, тебе никуда не деться от запаха табака. Он будет с тобой везде.
– Да, везде! – Ее губы медленно скривились в улыбке, и с них тихо сорвались слова, которых ему не удалось разобрать, – слова, которым суждено было стать первой эпитафией на смерть Тима Ньюджента: «Я буду помнить, доколе длится свет, и не забуду, когда сойду во тьму».
Ее глаза расширились, следя за восходящей спиралью дыма, и тихим, лишенным выражения голосом она повторила:
– Везде, везде.





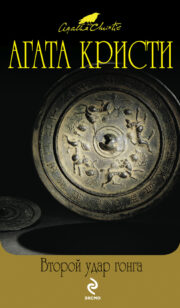
Эта книга Агаты Кристи была для меня открытием. Она подарила мне невероятное путешествие в мир детектива и приключений. Я была погружена в интригу и загадки, которые предстояло разгадать героям. Каждая глава приносила новые открытия и приключения. Я была под впечатлением от проникновенного художественного стиля Агаты Кристи и ее способности передать моральные и духовные ценности через свои произведения. Эта книга помогла мне понять многое из того, что происходит в мире.